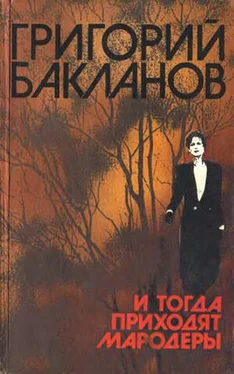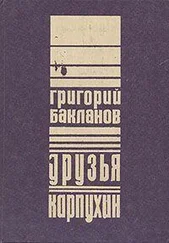«Убили Венечку, — сказал Йоська и вытер мутную слезинку, чтобы не капнула на конфеты, — Венечку убили, а я для чего-то живу».
Лялькин дом чудом уцелел среди развалин, один из немногих. Лесов взбежал по знакомым ступеням, одна из них еще с той поры была расколота, шаталась. Перед последним пролетом, прежде чем подняться и постучать в дверь, остановился на площадке, закурил: вдруг ноги стали пудовыми. Он курил и смотрел вниз, во двор. Все та же посреди двора отцветшая старая акация, на которую еще они лазали, запах ее сладковатый, мыльный — в памяти на всю жизнь. Но другие дети, подросшие за войну, бегали во дворе, среди них, как воробышек, вприпрыжку, — мальчик лет четырех на костыле. Тоже норовил единственной ногой подбить мяч, его отгоняли:
«Мотай отсюда, фриц! Геть!»
Лесов раздавил окурок подошвой сапога, позвонил в квартиру и ждал, слыша удары своего сердца. В глубине квартиры — голоса, но открывать не шли. Постучал еще, потом бил кулаком, и вдруг дверь приоткрылась на цепочку, будто за ней с той стороны все время стоял кто-то, слушал. Незнакомый мордатый мужик в калошах на босу ногу загораживал собой вход; из-за спины его сытно пахнуло борщом, вывариваемой стиркой.
«Здесь до войны жила семья Борисенко», — сказал Лесов твердо.
Тот молчал, смотрел тупо, дышал с сопеньем сквозь заволосатевшие ноздри. Какая-то распатланная баба высунулась из комнаты, той самой, где жили Ляля с матерью и бабушкой, и увидел он на миг, узнал черное их пианино с двумя бронзовыми подсвечниками.
«Чого йому?»
«Борисенки якись…»
«Еще Демины здесь жили, — Лесов начинал злиться. — Да вы что, боитесь пустить?»
Но уже шла по коридору, спешила седая женщина:
«Это — ко мне. Товарищ военный, вы — ко мне? Проходите, пожалуйста. Сюда, сюда».
В комнате, на свету, он узнал ее: это была Лялина соседка, постаревшая на полвека. Сын ее погиб на фронте, она снизу вверх вглядывалась в лицо Лесова умоляющими глазами, ждала.
«Анна Тимофеевна, вы не узнали меня? Это я, Саша Лесов».
Прижавшись седой головой к жесткому ворсу его шинели, она долго безутешно рыдала. Она и рассказала ему, что тот эшелон со станками, с эвакуированными людьми немцы разбомбили, а еще и танки вышли наперерез, и люди бежали, все побросав. А когда вернулись, в городе были уже немцы. Хватали любого, стоило пальцем указать. А Юра же еще комсоргом был. Он надеялся уйти в партизаны, но никаких партизан еще не было, и Ляля прятала его в подвале, куда ссыпали уголь, ночью носила туда еду, и дворник выследил. Анна Тимофеевна видела в окно, как его вывели. Стояли солдаты в касках, собака на поводке. Был он в перепачканной углем нательной рубашке. Бледный. Посмотрел вверх на окна. Ляля в немецком госпитале работала, она с детства свободно говорила по-немецки, а тут, как будто сердце почувствовало, прибежала среди дня домой. Но его уже увели.
— Вот у тебя под календарем листок этот блокнотный, — обрадовалась Тамара, найдя наконец. — Я помню…
Лесов взял, посмотрел номер телефона. Явится человек из небытия, разбередит душу…
В ночь перед тем, как ему прийти, Лесов увидел сон. Сырой лес после дождя, сырой и темный. В глубоких колеях, прорезанных колесами, — торфяная вода. Видно — до ближних деревьев, дальше — сплошной туман белесой стеной. Но слышно из тумана пофыркивание лошади, чавкающий звук копыт, приближающееся постукивание телеги. И вот показалась рыжая понурая лошаденка. В телеге — двое. Один спрыгивает, идет навстречу, хромает, аж валится на сторону, увязая в жиже суковатой палкой и деревянной ногой. Он грузный, широколицый, он совершенно не похож на Юру, и в то же время Лесов знает, что это — Юра, его брат. А тот манит к себе, и по щеке его, от угла глаза — кровь полосой, но он улыбается. И волосы его, как клочья тумана, из которого он вышел, совершенно седые. И взгляд незрячий. Объятый ужасом, Лесов хочет крикнуть, и нет голоса, а грузный человек, вдруг посуровев, подымает палку, тычет в бок. Лесов дернулся, вырвался из сна. И — радостный детский смех. Взобравшись на него верхом, внучка подпрыгивает на его животе:
— Де-еда!
А у него ледяным обручем сжало голову, сердце выколачивается. Вот так и помирают во сне.
Живую, теплую, прижал он внучку к себе, она выворачивалась из рук, смеялась в самое ухо, так, что звенело:
— Деда! Какой ты колючий! Почему у тебя щека вся мокрая?
И побежала от него, зашлепала босиком, подтягивая на бегу обвисшие пижамные штанишки, мотнулась в дверях белая ее косичка. Не знает она, как временами похожа на Юру. Не дети его взрослые, не сын и дочь, а — внучка. Как передалось это, какими путями? Но — губы, разрез глаз, а главное, во взгляде мелькнет что-то неуловимое — Юра глянул живой.
Читать дальше