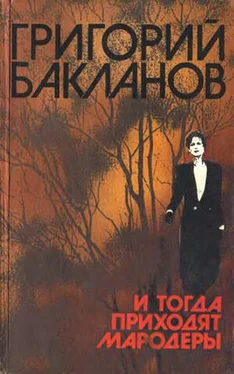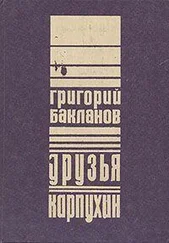Чтобы не мешать, не отвлечь ее, он отошел подальше, лег за огромный пень, в недавний шторм закинутый волной далеко от кромки воды. Долго носило его по волнам, выполосканные дочиста корни, как щупальца осьминога присосками, обросли мелкими ракушками и перламутрово переливались, а неподъемный, черный от воды голый ствол заметно посерел на солнце.
Лежа на расстеленном купальном полотенце, Лесов лениво соображал: похоже, прохиндей на этот раз не соврал. Уж Маша назвала его, назвала, как припечатала. Только зачем ему этого француза или кто он там, ирландец, тащить было сюда? Впрочем, у них там — дожди, а здесь — Черное море, дела надо делать с удобствами.
На жаре размаривало в сон, полдня он сегодня просидел за письменным столом, даже обедать не пошел, пожевал, что было в холодильнике, и сейчас чувствовал себя опустошенным до звона в ушах. Все же он, видимо, задремал. Когда подхватился, бармен в белой куртке уже убирал на террасе кофейные чашечки со стола на поднос, а по песку вверх подымались все четверо. Иностранный господин оказался огромного роста, белые мокасины его эдак пятидесятого размера, никак не меньше, загребали, Маша рядом с ним — девочка, едва доставала до плеча, но шла, как умела пройтись: нога напрягавшаяся, бедро — все обрисовывалось четко.
— Да-а, — вздохнул кто-то поблизости, — такая может вдохновить.
На гребне Маша остановилась высыпать песок из туфельки, пристально оглядела пляж. Их место пустовало. И пока она поочередно из одной, из другой туфельки высыпала песок, тот поддерживал ее под локоть и что-то говорил, наклонясь. По-английски? Впрочем, английский Маша знала немного. Все у этого господина, как при акромегалии, было увеличено: и нос, и челюсть нижняя, и ступни, и лапища в старческих коричневых пятнах. И вот ею, лапищей своей огромной, он касался Маши, поддерживал под локоток.
Вечером сияла луна над пустынным морем, протянув блещущую дорожку к зыбким береговым огням, а в черной дали, которая каждого манит с детства, вечность смыкалась с вечностью.
Несколько парней и девушек прошли внизу по пляжу, громко разговаривая, разделись у воды и, белые, поплыли лунной дорогой, все дальше, дальше в море перекликались их голоса.
Тихая волна проходила внизу между железобетонными сваями, и море подымалось к настилу. И откатывалось, утягивая за собой зеленые бороды водорослей от выступивших из воды валунов, обнажало ржавые, подточенные основания железобетонных свай, и казалось на миг, что и деревянный настил, у края которого он стоял, опершись на парапет, стронулся, плывет.
В тот шторм недавний, когда на берег выбросило огромный пень, они взобрались с Машей в горы, продравшись сквозь кустарник и ежевику. Глубоко внизу остались блещущая нить железной дороги, крыши домов, море, закрытое пеленой дождя. Только у берега от ударов вздымалась пена. Там — дождь, здесь — холодноватое дыхание туч, клоками туман проносило по лицам. И воздух был разрежен. Они смотрели на море и молчали: на море и на огонь можно смотреть бесконечно. Загудело в горном туннеле, эхо отдалось в горах, и замелькали, замелькали попавшие под дождь мокрые крыши вагонов. Вагоны, вагоны…
И опять возникло: вагон товарный, красный, набитый людьми, а в дверях его, распахнутых солнцу, сидят, свесив ноги наружу, старший брат его, Юра, и Лялька, такие молодые. Скоро полвека, как Юры нет на свете. Был слух, что Лялька жива. Вместе с отступавшими немцами снялась и уехала их семья, оставаться не решились. И где-то на полдороге их сбросили, а дальше, как подхватило вихрем войны и несло, она одна уходила с немцами пешком. Как-то попытался он разузнать про нее. На тридцать пятую годовщину Победы решился все же поехать в Германию, до этих пор не мог: вдруг тот, кому он будет пожимать руку, этой самой рукой застрелил его брата.
И вот — выставленные наружу, покрытые клетчатыми голубыми скатертями столики, солнце весеннее, майское, в Ялте в апреле такое солнце. Вся делегация ушла в музей, то есть, в переводе на русский язык, прибарахляться по магазинам, а он остался посидеть с четой немцев. Они возили их по городу на своем микроавтобусе, как выяснилось, — совершенно добровольно, показывали достопримечательности, и вот это их гостеприимство, а еще и то, что домой к себе позвали на ужин, окончательно насторожило искусствоведа в штатском, пристегнутого к делегации, он все нашептывал, чтоб не соприкасаться, вливал яд в уши: должность такая. Немец воевал на Востоке, у нас. Там и отбило ему три пальца, в том числе тот, которым нажимают на спусковой крючок. Клешнятой рукой подымал он кружку пива, запотелую на солнце. И Лесов встречно подымал свою кружку. А те, кого они убили на войне, в земле лежат. Об этом лучше не думать, это повторяется из века в век.
Читать дальше