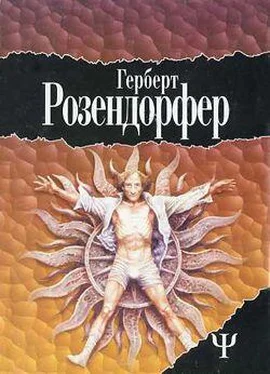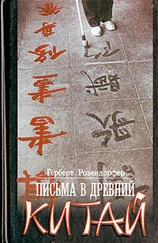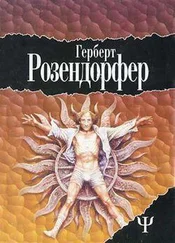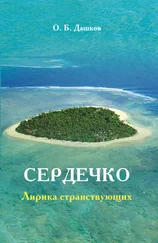Этот-то рев и вспомнился Кесселю, когда он, уже сидя в ванне, пытался найти аналогию странному звуку. Зайчик рылась у Кесселя в сумке и прищемила себе указательный палец на правой руке, пытаясь застегнуть ее снова. Она каталась по полу в судорогах и ревела с присвистом. а когда силы на перманентный рев иссякли, перешла на единичные вопли, сотрясавшие все ее существо.
– Зачем этой Жабе понадобилось лезть в мою сумку? – вопросил Кессель, выбежав полуодетым в коридор вслед за Ренатой.
– Что ты сказал? – насторожилась Рената – Ты назвал ее Жабой?
– И нечего так умирать, – констатировал Кессель, – из-за какого-то пальца.
Услышав эту сентенцию Кесселя, Жаба собралась с силами и заревела снова, стараясь почетче выкрикивать «уй-юй-юй!» и продолжая кататься по полу.
– Комедия, – махнул рукой Кессель.
Страдания Зайчика показались преувеличенными даже Ренате:
– Послушай, Зайчик, – сказала она, – ведь один пальчик так болеть не может.
– Может, может, – не сдавалась Жаба, – уй-юй-юй!
– Ну перестань, – попросила Рената, – если ты успокоишься и встанешь с полу, мама даст тебе анальгин. Хорошо?
– Да-а-а! – согласилась Зайчик, снова переходя на единичные вопли.
– А анальгин-то зачем? – удивился Кессель.
– Я знаю, что делаю, – возразила Рената. – В конце концов, я лучше знаю своего ребенка. – Она полезла в шкафчик за таблетками – Палец и в самом деле может болеть очень сильно.
– Все это одна комедия. – повторил Кессель, – Кроме того, она сама виновата: зачем ей надо было лезть в мою сумку?
– Надо или не надо, к травме это отношения не имеет, – отрезала Рената.
Зайчик получила анальгин, палец забинтовали (бинт почти сразу же украсился обычным орнаментом), после чего Рената сама дала Зайчику кусок сахара.
– Только в виде исключения, – объяснила она, заметив взгляд Кесселя.
И все же вечер еще мог закончиться спокойно и мирно – мир наступил, когда Зайчика после долгих уговоров и еще нескольких кусков сахара убедили наконец пойти спать («…Но это только из-за пальчика, завтра ты не получишь ни кусочка, и еще завтра ты обязательно почистишь зубы, ты мне обещаешь?» – «Да, мамочка», – просипела в ответ Зайчик, изображая дитя, стосковавшееся по материнской ласке), и вечер все еще мог закончиться спокойно, если бы не краткий, но принципиальный разговор насчет Зайчика. Кессель как раз хотел встать и поставить пластинку (Первый концерт для фортепиано Брамса), когда Рената спросила:
– Что ты сказал о Керстин?
– Я? Не помню. Кажется, я говорил, что ты ей во всем потакаешь вот она и ноет по каждому пустяку. Как бабуля.
– От Вюнзе у нее вообще ничего нет, совсем почти ничего.
– Ну да! – не выдержал Кессель – Ты только посмотри: ведь это одно лицо, она и бабуля!
– Внешне – может быть, а больше ничего.
Слава Богу, что это не мой ребенок, подумал Кессель, направляясь с пластинкой к проигрывателю.
– Ты назвал ее Жабой, – продолжала Рената. – Я точно слышала.
– Возможно, – не отрицал Кессель.
– Ты ее не любишь.
Кессель обернулся и посмотрел Ренате в глаза.
– Да, я ее не люблю.
– Но почему, почему?
– Потому что она такая – и Кессель, как мог, изобразил выражение лица Керстин.
– Но она же не виновата, что она такая!
– А я не виноват, что не люблю таких людей.
– Она еще ребенок!
– Дети – тоже люди.
Кессель повернулся было к проигрывателю, но передумал и снова обернулся к Ренате:
– Нет, – сказал он, – не потому, что она такая, а потому что она насквозь сентиментальна. Не где-то там, внутри – в глубине души все мы сентиментальны, – а во всем, в каждой мелочи. У нее не душа, а повидло. Поэтому я ее не люблю.
Рената не обиделась – прежде всего потому, что не восприняла этого всерьез. Она не могла даже представить себе, что ее Керстин – пусть у нее сложный характер, но ведь «она бывает очень, очень ласковой» – может не показаться кому-то чудным ребенком. Она прочла Кесселю целую лекцию (занявшую всю первую часть концерта Брамса), рассказывая о раннем детстве Зайчика, о ее милом лепете и необыкновенной, так рано проявившейся сообразительности.
Она рассказывала о трудных временах, когда Зайчика мучила икота и они с Курти месяцами попеременно дежурили у детской кроватки (на этой стадии разговора Кессель уже не отвечал ничего, но тут подумал: насколько я знаю Жабу, она и это делала сознательно, чтобы, так сказать, не давать родителям расслабляться, а себя ощущать центром внимания), и к концу первой части Концерта Брамса ре минор для фортепиано с оркестром впала по поводу Керстин в такой восторг, что решила – этому способствовало, конечно, и стоическое молчание Кесселя, – будто и он тоже дал себя убедить, проникся и возлюбил Зайчика.
Читать дальше