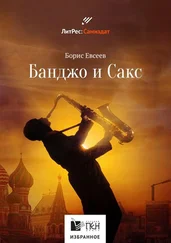– Православен я. И ступеньку свою малую на лестнице великой, лестнице Божьей знаю.
– Я не хочу в Сан-Франциско, не хочу на Фишерман Уорф! Могилу Мишенькину хочу найти. Только тогда про возвращение думать буду.
– Это которого на льду Казачки расстреляли? Мандрика? Место захоронения его мне известно. Ты езжай в свою Сан-Франциску с Богом. Я передам по цепочке, чтоб написали тебе туда и место указали.
– Не по-человечески, без креста их похоронили. Всех, наверное, в кучу свалили. Только тут ведь мерзлота вечная! Вот мне и кажется: как живой он там! И еще мнится: похоронить как надо просит. А может, и не только этого просит… Может, перстень с руки его просит содрать!
– Што за перстень такой?
– Перстень-печатка. Мой перстень! Подарила ему на горе…
– Печатка? Такие перстни одну только пагубу приносят. Печать-то на перстеньке и дьявольская может быть вырезана!
– Если не перстень, то хоть могилу увидеть бы…
– В неудобном месте могила. Да ведь не было, наверное, тогда, в двадцатом году, другого места. Ничего, придет срок, перезахоронят. Я через чад своих позабочусь.
– Мишенька не бандит был. Деньги и драгоценности любил, конечно. Но больше всего – революцию свою обожал. Из-за революции меня и предал. Только я ведь его простила. Не на словах – сердцем простила. Теперь, мне кажется, и он на том свете после прощения моего другим стал. А то – бандит, бандит…
– Вижу душу твою и, как пальцами плоть, ее осязаю: не ты сама, душа твоя простила! И революцию она простила. И контрреволюцию… Революция, она ведь – пещерный медведь! Доисторический, а не новый вид медведя. А контрреволюция – помесь бурого и белого: полумонархия, полутирания…
– Вот вы, оказывается, какие слова знаете. Но это и правда так! Я от одного ученого-востоковеда во Владике давно еще слышала: революция – пещерная архаика, рядящаяся в модную одежонку! Так он сказал…
– Вот и я кое-что про это читал. Но ты лучше не читанное, лучше вырвавшееся из сердца слушай: что революция, что контрреволюция – одна сатана! А ты их – простила. И сладко тебе, и хорошо. Только ведь прощение – это всегда и прощание…
– Это как еще?
– А так: простив, избавляешься от страшной тяжести, с ней прощаешься и… переходишь к легкости легкой, легкости маловесной, одними сожалениями о потере обид и зла отяжеленной! Ты здесь и появилась, чтоб легкость легкую и спрятанную в ней горечь сожалений тут, у нас, изведать! В этом твоя неправедная праведность…
– Ух ты! А что? Может, и так. Может, для того в пыточную вашу Совдепию и ехала. Только не решила еще: тут мне умирать или в другом месте?
– Ты Совдепию зазря не ругай. В ней смысл тоже есть… У Бога-Жизни много смыслов на всякое дело припасено. А мы едва-едва один смысл – тот, что сверху, как чулочек, натянут, – понимаем. Да и жизнь, она везде есть. И почти везде одинакова. Давно по всему миру жизнь – копейка. Но только та жизнь копейку стоит, которая с данной от Бога судьбой не смогла себя совместить. Бог – это надрыв и озарение! В них-то он всегда присутствует. А люди многие озарение от себя гонят. Да и надрыв тоже гонят. Со-творением собственной жизни, по линиям судьбы предначертанной, не занимаются. Живут по ранжиру, без любви, на голом параграфе спят, едят и нужду справляют. Ты не такая. Судьба твоя, от Бога данная, с жизнью правильное совмещение имеет. Хотя, наверное, другие про тебя думают: идиётка! Америку покинула, в Совдепию приплыла… А я вот чую: в озарении жизнь оставшуюся проживешь… Ну а если возвращаться в Америку вздумаешь – не через Петропавловск. Дуй через Владик! Выкван Иваныч тебя проводит…
– Через Владик! – Елена от радости приподнялась и сразу рухнула на постель: рука и висок нестерпимо болели. Тут же лопнул в глазу какой-то сосуд и в бело-красном мигающем свете она увидела угол Суйфунской и Светланской, вспомнила смешную вывеску «Военно-офицерские вещи Дворкина» и здесь же, рядом с Первой классической гимназией города Владивостока, почти на ступенях ее, – молодого изысканного японца в траурном белоснежном костюме. Японец пел, выводя русские слова со всей ненавистью любви, на какую был способен. Пел чисто, звонко, как поют свою короткую песню громадные, желтовато-белые птицы-самоубийцы:
Там, где багррряное солнце встает,
Песню матрос на Амуррре поет…
Амур-река выливалась изо рта его бурно, страстно, а потом – широко, спокойно. С той же спокойной страстью японец выхватил из внутреннего кармана кривой нож, ударил себя меж застегнутых пуговиц, а потом повел глубоко вошедшим ножом наискосок по животу – вниз, вниз…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу