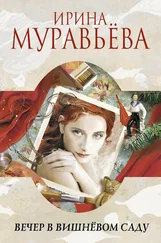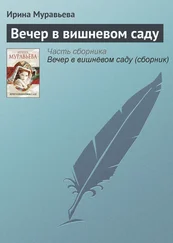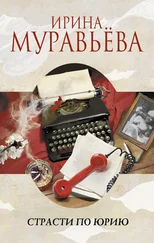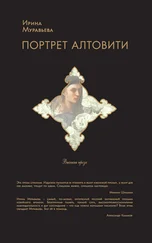Ирина Муравьева - Дневник Натальи
Здесь есть возможность читать онлайн «Ирина Муравьева - Дневник Натальи» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 2009, ISBN: 2009, Издательство: Эксмо, Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Дневник Натальи
- Автор:
- Издательство:Эксмо
- Жанр:
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-3261
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Дневник Натальи: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Дневник Натальи»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Дневник Натальи — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Дневник Натальи», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ночью, тринадцать дней назад, он подполз к моему изголовью и заскулил. Я не поняла, что с ним. Тогда он начал лизать мою голову, и боль, мучившая меня весь день, почти ушла. Но он опять заскулил, и я зажгла свет, чтобы посмотреть, что с ним. Он дрожал крупной тяжелой дрожью и прижимался мордой к моим рукам. Он надеялся, что я помогу ему.
— Хочешь пить? — спросила я.
И тут его вырвало прямо на мою постель. Он ужаснулся этому, он подумал, что я буду ругать его. Он еще успел ЛЮБИТЬ меня и тогда, когда пришел ко мне умирать, он успел испугаться, что огорчил меня! Собака моя. Родная собака моя, вернись ко мне. Ах, Господи, что я пишу! Его вырвало еще раз — чем-то желтым, и он начал ловить воздух открытым ртом и хрипеть. Тогда я бросилась к Нюре, распахнула дверь в ее комнату. Было очень душно, и я увидела их обоих — голых, спящих спинами друг к другу. Мне показалось, что теперь у них обоих такие же белые мертвые лица, как у Нюры было днем, когда она просила меня продать дачу. Я закричала, и они вскочили.
— Иди сюда, — кричала я и цеплялась за них, горячих и голых, не проснувшихся до конца. — Скорее!
Ян завернулся в простыню, а она так и выскочила, не прикрывшись. Тролль хрипел на ковре в моей комнате, изо рта его ползла пена.
— Дай воды, — сказала Нюра, — немедленно воды дай!
Ян принес воды, и они начали насильно поить его. Но он не мог пить, все выливалось. Тогда Нюра побежала куда-то звонить и стала объяснять по телефону, что у нас умирает собака. А я лежала рядом с ним на полу и прижимала его к себе, и целовала его. И — вот, чего я никогда не забуду: он лизал мои руки. Хрипел, захлебывался, лапы дрожали, но продолжал горячим своим языком лизать мне руки, потому что все еще чувствовал меня и благодарил меня за то, что мы с ним прожили. Собака моя. Вернись ко мне, вернись ко мне, вернись ко мне. Не знаю, сколько прошло времени, час, может быть, или двадцать минут, не знаю. Приехала ветеринарная неотложка. Нюра сказала, что это она упросила, потому что неотложка почти и не выезжает на вызовы, у них чего-то там нет — людей, бензина, не знаю. Они приехали и оттащили меня от него. Но он был теплым, он еще дышал!
Вижу все это, вижу. Он лежит — лапы вздрагивают, зрачки закачены — и на глазах моих становится все меньше и меньше, он уходит от меня! Исчезает! Врачиха в балахоне — сером или черном, как инквизитор, стоит на коленях и засовывает ему в рот трубку. Рядом Нюра и Ян, завернутые в купальные простыни. Два привидения. Держат меня за руки, хотя я не вырываюсь, я не вырываюсь, я просто прошу, чтобы врачиха перестала засовывать эту трубку в него, не надо его мучить, не надо. Что вы с ним делаете, оставьте его, я лягу рядом, прижму его к себе, мы заснем, отпустите.
Потом черная поднялась и обернулась к двери. Вошли двое помощников с большим мешком. Да, синим, большим. И они взяли его и засунули в этот мешок. Я кричала, да, я помню. Я кричала, а Нюра зажимала мне рот, плакала:
— Мамочка, мамочка, не надо! Ой-ой! Мамочка!
Они унесли его, черная похлопала меня по плечу и оставила в столовой какую-то бумагу. Зачем я все это так запомнила? Его унесли. Вернись ко мне, вернись ко мне. Деточка моя, деточка моя родная, вернись ко мне.
Тринадцать дней прошло. Я много думала, я все время лежала и думала. Нюра сидела у меня в ногах и рыдала. Что она рыдает так жадно? Словно дорвалась. Ян ушел. Сиамец не появляется. Я спросила, где они все. Она оскалилась, как ведьма, махнула рукой. Они ее выпотрошили, мою дочку, они ее выпили, обескровили. А мама твоя уходит, девочка, мама кончилась. Я была бы рада остаться, но чувствую — не могу. Пора мне. Так тихо у нас в доме без Тролля. Тихо, беззвучно, телефон молчит, за окном — дождь и ветер, темно, сумрачно. Какое дождливое выдалось лето! Нюра принесла клубнику, попыталась накормить меня насильно. Я не стала есть, не могу. Посиди со мной. Вчера я видела сквозь сон, что приходил Феликс. Потоптался надо мной, потом сказал:
— Обещали через пару недель…
О, надо торопиться! Что-то ему обещали через пару недель! Что-то он предпримет по моему поводу! Ухожу. Моя дочка осиротеет, а мой сын так и не встретится с матерью. Подожди, Наталья, подожди. Ночью страшно важная мысль пришла мне в голову, самая важная, и надо напрячься, вспомнить ее и записать. Что это было?
Да, вот что: я наказана тем, что по сей день не знаю, где мой сын и что с ним. Но я заслужила это наказание. Я его не хотела, сына. Я все время лгала. Мальчика своего я не хотела. Я испугалась беременности, я испугалась — избалованная идиотка — своего собственного ребенка, мне нравилось играть в куклы. Феликс повез меня на аборт. У меня была записка к главврачу гинекологического отделения одной больницы, не помню номера, где-то на «Войковской», и конверт с деньгами в сумке, и зубная щетка, потому что после аборта я должна была провести в больнице ночь. Это было в декабре, до Нового года. Мы шли по аллее больничного парка ранним утром, часов в восемь. Было темно и холодно, и я не догадывалась, что иду убивать, и мальчик мой не знал, что я задумала и куда я так тороплюсь. Или он знал? Ах, как страшно! Наверное, он плакал и просил меня не делать этого, а я скользила по снегу, вцепившись в руку Феликса, и ничего не слышала, торопилась, торопилась. Что он чувствовал тогда, мальчик мой? Что он думал тогда обо мне, своей матери? Вдруг пошел снег. Феликс сказал: «Беда, барин, буран». Мы искали корпус номер восемь, но не могли его найти. Никого не было в больничном парке, только два раза за голыми деревьями мелькнула чья-то фигура в сером халате поверх пальто, толкающая перед собой нагруженную тележку. Что было в тележке, не знаю. Мертвый, которого перевозили в морг, котел с кашей? Не знаю, не знаю. Мы так долго искали корпус номер восемь и так закоченели, что я вдруг сказала Феликсу:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Дневник Натальи»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Дневник Натальи» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Дневник Натальи» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.