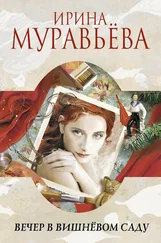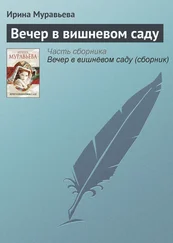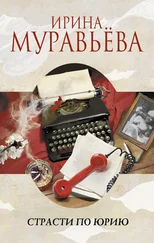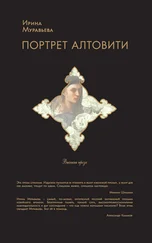— Бери, — говорю я. — Бери и действуй. Деньги твои.
— Ничего я не возьму, — отвечает он. — Ты не отвечаешь за свои поступки.
— Ты возьмешь, — сморщилась я, — еще как возьмешь! Это же пятьдесят тысяч, не меньше! Вспомни, какой там дом! Папочка, — и глажу бугорок, — каждую половицу вылизал! Мне деньги не нужны.
— Что? — спрашивает он, — что тебе нужно?
— Ты знаешь, что, — говорю я. — Феликс! Все деньги — твои!
— Наташа, — он схватил меня за плечи, — что с тобой?
— Возьми, возьми деньги, — шепчу я, — мне ничего не нужно.
Я вдруг зарыдала. Он сел рядом. Щека — правая, повернутая ко мне, — в земле. Я испачкала. Мой муж. Мой муж. Не мой муж. Муж, не мой. Объелся груш. Висит груша — нельзя скушать. Скушно. Пиши, пиши. Что было потом?
— Я помогу тебе, — шепчет он. — Но давай поговорим серьезно.
— О чем? — спрашиваю я.
— Наташа, — говорит он, — я не хочу тебя пугать, но как человек, тебе не посторонний, и отец нашей с тобой дочери…
Я опять сморщилась. Но тут же мне пришло в голову, что надо обязательно удержать его здесь, просидеть с ним здесь, на могиле, сколько можно, потому что — она вернется! Почему-то я была уверена, что она вернется.
— Ты видел нашего сына, — говорю я, — мертвым?
Он вскочил:
— Опять! — закричал он. (Разве можно так кричать на кладбище?)
— Что — опять? — говорю я. — Простой вопрос: смотри! — И достаю из сумки то, что мною было припасено — несколько фотографий из нашего семейного альбома (я ведь приготовилась к этой встрече!). — Смотри.
На первой фотографии — мы с ним в Сочи. Начало января. ТА моя беременность. Месяца четыре. Пляж, ни одного человека, я в плаще, со вздыбленными ветром волосами, он — в куртке-ветровке, наброшенной на голову, обхватил мои плечи и состроил рожу тому, кто нас снимает. Кто нас снял — не помню! Кто-то третий был с нами. Если всмотреться, то уже видно, как плащ топорщится на моем животе, как мой живот натягивает ткань, и там, под тканью, дитя мое, наверное, шевелится, наверное, толкает меня изнутри своей горячей ножкой, и поэтому я так радостно и блаженно смеюсь, привалившись к своему мужу.
— Смотри, — говорю я и ногтем очерчиваю круг на фотографии, на своем выпуклом животе, — смотри, дорогой. Видишь? Это наш сын. Он ведь был. Ты видишь?
Смотрит на меня страдальчески. Смотри, смотри. Достаю следующую фотографию (как хорошо, что они сохранились!). К Феликсу в мастерскую привели какого-то француза или итальянца, не помню. Была небольшая вечеринка с русским угощением (я делала винегрет и пекла блины!). И кто-то нас всех сфотографировал. В центре — француз (или итальянец), кудрявый, как овца, в маленьких очках, с хищным носом, а по бокам — четверо художников, приятелей Феликса, потом кто-то неизвестный, который и привел в мастерскую этого француза-итальянца, и я — с большим животом, который возвышается над кудрявой головой иностранца, как круглая диванная подушка. Итальянец и художники сидят на полу, а мы с Феликсом стоим, и потому мой живот оказался в самом центре фотографии и сразу же притягивает к себе внимание.
— Вот, — говорю я старому, лысому, страшному, бросившему меня Феликсу. — Это уже перед самыми родами, начало июня. Видишь, какой мальчик большой? — И опять обвожу ногтем свой живот на снимке. — Видишь, сколько его? Так где же?
Внимательно слежу за его лицом. У него дрожат губы. Помогите мне, мои родные, помоги мне, Платонов! Сейчас он должен сказать мне все, как было, он должен отдать мне ребенка.
— Ты помнишь, — говорю я, — что сына я все-таки родила, с кесаревым, но родила! Живот мой пуст, его там уже нет! Двадцать пять лет, как нет!
Беру его руку и кладу на свой живот. Осторожно, но настойчиво. Руку не убирает, смотрит на меня со страхом, весь — серый.
— Так вот, — говорю я, — простой вопрос: где он?
Вдруг Феликс вскочил и рывком поднял меня со скамеечки.
— Наташа, — забормотал он, — пойдем домой. Тебе надо лечь, ты устала. Дома поговорим. Дома.
Я не стала сопротивляться, не стала. Почему? Стыдно произнести. Стыдно! У него были такие добрые, такие родные руки, и он так нежно, так крепко сжимал мои плечи, и так близко было его старое, ужасное, любимое лицо! Теперь я понимаю, что он опять обхитрил меня, опять обвел меня вокруг пальца, нас всех — моих родных и Платонова — всех обхитрил, всех!
Я что-то не помню, что было дальше… Что? Да, лавочка, с лавочки он меня поднял. Что потом? Он сказал: «Прошу тебя, пойдем домой…» Я замотала головой. Уперлась. Думала, он будет тащить меня насильно, но он был страшно нежен и заботлив. Он гладил меня по голове, по спине, он целовал мои руки. И весь дрожал, весь. «Пойдем, пойдем, Наталья, — бормотал он, — ты устала, пойдем…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу