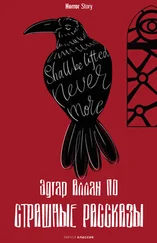Приживалка!
Петенька, грузный, такой вдруг старый, обнимал ноги, рыдал, неуклюже полз за ней на коленях: Греточка, Греточка, прости ее, обезумела, такой удар, Гретхен, не уходи…
Майн готт, какие бессмысленные страсти… Петруша, солнышко, уткнувшись лбом в запретный том Мопассана, пока никого нет. Так и сидел. Как все равно спал. И темные волосики на затылке, над выстриженной ямкой, взмокли, будто от сонного пота.
Как давно! Так давно, что впору спросить: а был ли мальчик-то?
Если бы Маргарита Ивановна всем толстым и утомительным книгам не предпочитала маленький лютеранский евангелический мемуар – скажем, от Иоганна.
Шура ругала ее ругательски, что деньги не взяла, а она ругала
Шуру. На черта эти деньги, когда глаз все равно, как вы, дорогая, точно выразились, затмился. Ах, Шура, дорогая, кто теперь поверит, что так называемые глаза были у Бабки-Ежки полвека назад – вот в точности как эти фиалки: темно-голубые, почти фиолетовые… А чего ж, Ивановна, очень даже верю, ты и сейчас женщина впечатлительная!
Короче говоря, электричество в берложке горело всегда. Даже днем по этому простому признаку легко было определить, дома Маргарита
Ивановна или в школе. Потому что лет десять она почти нигде больше не бывала: ну пару раз в году ездила прибрать могилы на
Введенское да к Бобочке на день рождения. И, как ни странно, здесь, в берложке на первом этаже, вдруг избавилась от главного ужаса своей жизни.
Убежав, в чем была, со Сретенки, первое время ночевала в аппаратной на своей фабрике, потом снимала какие-то клоповники, перебиралась из коммуналки в коммуналку; был один недолгий и неофициальный брак – передышка в хорошей квартире, с милым человеком, зубным врачом. Потом, к сожалению, к нему вернулась жена. И вот все это время Маргарита Ивановна до безрассудства, до обморока боялась воров. А когда наконец дали эту комнату в
Измайлове, в двух станциях метро от Введенского (“Немецкого”) кладбища, – вдруг успокоилась.
В мастерских при Бобочкином институте по его чертежам выточили и склепали решетку, Глебка сам поставил ее, фигурную, типа рыбок в волнах. С помощью кнопок Маргарита натянула на форточку марлю, зажгла люстру, торшер с прожженным пластмассовым абажуром, а также калужскую еще (настоящий ампир) настольную лампу с цветными витражными стеклышками, вызывающими сладость во рту, забаррикадировалась кактусами и фиалками и, запершись на латунный крючок, а на ночь еще спустив “собачку” на английском замке, – впервые за долгие годы заснула спокойно.
Майн готт, я отдала им все: дом, любимых, родных; мои гибкие суставы заволокло солью, а фиалки – мутной паутиной, как в старом гербарии на калужском чердаке; за шестьдесят лет я ни разу не брала бюллетень. Только маленький, мало кому заметный перерыв на рождение и похороны мальчика…
Двое нетерпеливых могильщиков, один на удивление трезвый и раздраженный, сначала не хотели, а потом согласились за шестьдесят рублей, почти бегом вместе с шофером грузовичка дотащили нетяжелый нарядный гроб, обтянутый белой бязью, под дождем сразу потемневшей, жалко облепившей неструганые доски, дотащили, как лодку, и спустили, подведя рогожные ремни, и велели кинуть мокрой глины. И комья стукались, как весло о борт на мелководье, а потом шлепались с плещущим звуком, и скрипели уключины, небо к вечеру расчистилось, и Павел, перехватив ее, как ребенка, за спину и под коленями, брел, чуть пошатываясь, к берегу, а лодочники, не считая, распихивали мокрые деньги по карманам.
Я никого не утруждала, не завидовала, мне, в общем, хватало.
Хотя сдавалась порой глупым слабостям: обожала перчатки, постельное белье и какао. Но платила за все – а нажила одно барахло, годное для церковных пожертвований и помойки. Я ни у кого ничего не просила! И в начале восьмого десятка смогла уползти в собственный угол. В свои собственные – ничьи больше! – четыре стены, под свою крышу, где могу хозяйничать, жечь свет и свободно, не опасаясь ничьих окриков, загромождать площадь – ровно шестнадцать, как ни меряй, ровнейших квадратных метров, захватывающая игра, бесконечный пасьянс комбинаций.
Это ли не приключение – для тех, кто понимает: громоздить свою, мою любимую рухлядь, родное барахло, дорогой тлен, все это дерьмо, Глебка, все мое, Бобочка, приданое – которое мне некуда отсюда брать с собой. Целых одиннадцать лет я прожила хозяйкой! Пользовалась половиной, целой половиной газовой плиты, хотя у речника Толика семья из трех человек, а я – одна. Но я полноправный квартиросъемщик, и мне принадлежит ровно половина лицевого счета.
Читать дальше





![Алла Боссарт - Холера [сборник]](/books/436492/alla-bossart-holera-sbornik-thumb.webp)