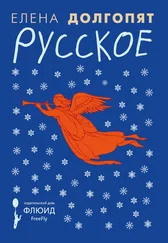Дядя Серафим умел все: и скамейку поставить, и каток залить гладко, как зеркало, и горку построить самую высокую, не горку – горищу, и дверной замок наладить, и стекло выбитое заменить, и вывихнутую ногу вправить, и кран протекающий починить. Когда дядя Серафим был дворником, мир двигался ладно-складно, как самый точный часовой механизм. Правильно.
Во дворе было хорошо, дома – худо. В девятиметровой комнатушке ютилось их четверо: Валя, мать, отчим и его слепая мать, которую
Валя ужасно боялась. Валя мечтала, что вырастет и будет жить в отдельной квартире с добрым, ласковым мужем и двумя похожими на ангелочков детьми. Но Валя была некрасивая, скованная, иногда казалось, что взгляд ее безумен. Уроки она понимала плохо, ученье выходило для нее мукой.
В тридцать лет она родила без мужа мальчика.
К тому времени Валя жила с отчимом все в той же комнате. Матери их умерли. Отчим разговаривал мало, прятал от Вали свою пенсию. Купил себе в общую кухню отдельный холодильник. Соседям жаловался, что
Валя ждет его смерти. Валя и ждала.
Дядя Серафим все еще работал дворником, но двор был уже не тот.
Появились гаражи. Никто не танцевал во дворе летними вечерами.
Сидели у телевизоров. Молодежь не расставалась с транзисторными приемниками. Девочки курили. Мальчики носили длинные волосы. Все помешались на джинсах.
Валя мучительно жалела иной раз, что родила своего Петеньку. На что?
Будет стоять в подворотне с папироской в крепко стиснутых пальцах.
Патлатый, чужой. Как бы хотелось, чтобы он вырвался из этого круга куда-то, где живут умные, воспитанные, великодушные люди. Живут и знают зачем. Для этого много чего надо. Хотя бы школу закончить на
“хорошо” и “отлично”.
Петенька пошел в первый класс в 1977-м. К тому времени постаревший дядя Серафим ушел на пенсию и устроился на спокойное место. Валя и обрадовалась, и смутилась, когда увидела его первый раз за барьером в гардеробе. Он сидел чинный, важный, в очках, с книгой. Вале казалось, он хранит ключи от того райского сада, в котором когда-то было ей так хорошо.
В те времена зимы стояли морозные, снег ослеплял, наваливало его много. Весной сияло солнце, текли ручьи, птицы пели, почки лопались, нежная зелень окутывала деревья прозрачной дымкой. На асфальт ложились теплые тени.
Когда Серафима Ивановича увезли на “скорой”, Валя, преодолев трепет, вошла в гардероб. Похолодевшими руками она взяла его книгу с полочки под барьером. Оглянулась, не смотрит ли кто. И унесла книгу с собой.
На память.
Москву я практически не знала, когда поступила в институт. Я не могла даже вообразить, как она выглядит. Я четко представляла только нашу комнату в общежитии, лифт, остановку, троллейбус, улицы за окном троллейбуса, остановку, институт. То, что мне было знакомо, походило на странную структуру, чем-то напоминающую обломок космического корабля, затерянный в пустоте космоса.
Мне было очень неуютно, и я стремилась расширить свои представления об этом городе, заполнить пустоту космоса ясной системой улиц, переулков, магазинов, сквериков, памятников, музеев… Поступала я следующим образом: выходила из общежития, садилась в троллейбус, сходила на любой незнакомой остановке, брела по любой незнакомой улице, глазела по сторонам, в какой-нибудь булочной отдыхала, пила кофе с бубликом или что там продавали. Уставала – спрашивала прохожего, как добраться до ближайшего метро. В общежитии, под лампой, накрытой полотенцем, чтоб не мешать светом спящим уже девчонкам, я раскрывала на чисто протертом столе карту и отмечала пройденный маршрут. Возможно, это род безумия. И, как говорит моя бабушка, каждый дурак по-своему с ума сходит. Но я-то по-своему с безумием боролась, строя образ огромного чужого города как лестницу в пустоте. Мои странствия не прекратились и тогда, когда я поселилась в загородной дачной тишине. Почти каждое воскресенье я выбиралась побродить. Это вошло в привычку. Больше того, это стало удовольствием. У меня появились любимые улицы, на которые я возвращалась. Неосвоенное пространство меня тревожило все меньше.
Мне было на что опереться.
Я полюбила Столешников, проезд МХАТа, Бульварное кольцо, Солянку,
Маросейку, Кривоколенные переулки… Я полюбила старые особнячки, не пряничные, нарядные, принадлежащие посольствам, а обшарпанные, со стеклами, за которыми пряталось и смотрело на тебя лицо, женское или мужское, старое или молодое… Но я воображала лицо старухи, все-все-все вдруг вспомнившей.
Читать дальше