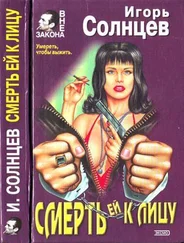Наскоро умывшись, позавтракав и наотрез отказавшись от выпивки,
Юрьев с женой перешли в гостиную, куда дядя позвал их. На столе разложено уже было несколько стопок фотографий изображениями вниз, идентичных, как карточные колоды. Отдельно лежали туристические проспекты и прочая полиграфическая продукция. Дядя прохаживался по комнате. Теперь на нем надеты были отороченная мехом безрукавка и войлочные белые сапожки. Дядя потрогал рукой батарею отопления, в комнате от силы было градусов пятнадцать.
Надев очки, он снял показания с градусника за окном и занес их в прикрепленный на стене разграфленный лист. Юрьев поинтересовался: зачем? Вместо ответа дядя извлек из ящика серванта несколько общих тетрадей, заполненных погодными записями. Уже много лет им велся дневник погоды, куда он заносил ежедневные показания температуры за окном, сопровождая их иногда короткими замечаниями, например, когда выпал снег или град, и когда прошли дожди и какой силы. По нему легко было сосчи-тать количество погожих дней в месяце или сравнить один год с другим в погодном отношении, но главное, синоптический метод позволял отставному лесничему расподобить дни, нашарить их слабый пульс, обнаружить в их смене пусть хотя бы метеорологический смысл. К тому, что это занятие ему интересно, дядя ничего не мог добавить. Судя по всему, это была созданная им для собственных нужд натурфилософия отчаяния – практика отслеживания симптомов того тревожного новообразования, что зовется у людей временем, помогавшая ему как-то справляться с потоком жизни на протяжении последних полутора десятков лет.
За дневниками последовала очередь фотографий. Это были кипы поеденных химикалиями и подернутых вуалью отпечатков с пленок, снятых в туре по победившей островной социалистической стране.
Похожим образом тропикальные красавцы и красавицы, сходя с тропы размножения и соперничества, утрачивают свои полосы и яркую расцветку, успокаиваясь в колышущейся серости чередующихся приливов и отливов. То же происходит с людьми, у которых по мере нарастания усталости от жизни блекнет постепенно радужка глаз.
Но дядя-то, глядя на отпечатки, по-прежнему видел все отснятое в цвете! Это Юрьев оказывался вынужденным дальтоником, о чем беспристрастно свидетельствовали снимки.
Разговор не клеился. Юрьев включил поначалу диктофон, затем выключил и больше не включал. Уже сидя в поезде, Юрьев понял, что дядя остро нуждался в его помощи, той помощи, которую он не сумел ему оказать. Да и как это было бы возможно? Дяде его хотелось не рассказать что-то, что он знал, но, наоборот, самому узнать, что именно он знает: чем является тот ворох пережитых им впечатлений и накопленных сведений, добытых на протяжении долгой жизни? Неужто смысла в них не больше, чем в той пачке любительских черно-белых снимков 9512, призванных удостоверить факт туристической поездки на остров Свободы в одна тысяча девятьсот каком-то советском году? Он желал, и стремился, и всячески избегал одного и того же – ему страстно хотелось получить разъяснение и отпущение грехов без суда и оценок, оставаясь в человеческом мире. Возможно ли было помочь ему в разрешении его неразрешимого пасьянса? Вероятно, не более чем помочь дереву сойти с места, на котором оно выросло.
Перед Юрьевым сидел старший брат его матери, в чьем теле похоронено было жгучее знание огнестрельных ранений, знакомство накоротке с голодом, отнимающим рассудок, когда сфинктер уже не держит, а от прикосновений на опухшем теле остаются топкие побелевшие вмятины, не собираясь выпрямляться, будто время для него уже остановилось. Внутри себя этот человек еще помнил, как болтался на броне танка, пристегнувшись ремнем и страшась смерти под гусеницами, во время последнего марш-броска на Вену, когда танкам был отдан приказ не останавливаться,- пытаясь заснуть и забыться в таком положении. Словно осколки, сидящие в теле, лишенные средств их передачи факты, которые сознание стремится упрятать, как дерево следы ненастий в своих годовых кольцах. В тридцать третьем на Украине семья их выжила благодаря корове.
Еще весной тридцать второго их отец откуда-то знал, что будет голод. Каждый день он носил с маслобойни отработанный жмых, сколько мог унести. После трудоемкой обработки, размягчающей его, жмых годился в корм корове. Вся семья, подчинившись железной воле отца, трудилась все лето над переработкой жмыха – малейший брак мог нанести вред коровьему пищеварению, и тогда прощай молоко и вместе с ним жизнь семьи. Всю страшную зиму тридцать третьего отец спал в коровьем хлеву. Поперек двора натянуты были им веревки с подвешенными жестянками, бутылками, худыми жестяными ведрами и прочими грохоталками, заслышав шум которых вся семья обязана была выскакивать на двор с громкими криками, вооружившись чем ни попадя и подымая невыносимый гвалт.
Читать дальше