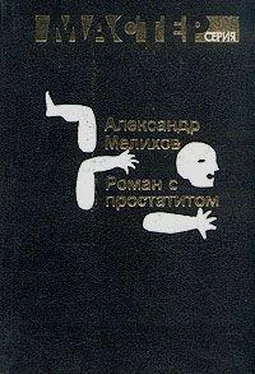Лежать я мог лишь на левом боку (зажималось сердце), спрятав концы в бутылочку. Просыпался от болевого аккорда, но черная глубь продолжала спать мертвым сном, покуда меня влекли утоляемые малые и неутолимые большие нужды. Теперь за мной следили два будильника – гидравлического и пневматического действия. После третьего-четвертого медленного-медленного подъема уже можно было брести в “Гнойную перевязочную”. Обычно мы ждали Михайлова, стремительно приносившегося и уносившегося прочь, вдвоем с бледным мужчиной, у которого было целых два мочевых пузыря – и оба никуда не годились. Она такая воображулька, грустно жаловался он на перевязочную фифу – при появлении Михайлова, однако, начинающую таять и мурлыкать. Все шерстяное, несмотря на холодину, полагалось оставлять в коридоре. Михайлов возился в моем боку, отдирал, тыкал, дергал, я помыкивал, а однажды, осторожно сползши с верстака, никак не мог поймать трубку, без которой себя уже не мыслил, и Михайлов совершенно счастливо расхохотался и даже передразнил, как я ошалело ловлю пустоту. На радостях я забрался аж к инфарктникам и там взвесился. Оказалось, я потерял семь килограммов, хотя никогда не отличался упитанностью.
Я начал ходить с гигиеническим пакетом на боку. Как я теперь понимаю женщин: ведешь приличную беседу – и вдруг чувствуешь: намокает… Дырка в боку, мне сказали, может затягиваться и открываться еще черт знает сколько недель. Я был все-таки очень слаб: порногазетенка, которую я прежде проглядел бы все-таки не без оживления, не вызвала ничего, кроме скуки: дурь какая-то…
Но я уже начинал выходить из себя: я испытывал все нарастающую и нарастающую жалость к Соне – а потом уже и тревогу: черт его знает, может, она, наоборот, меня хотела оградить от каких-то своих катастроф…
Голос такой безнадежности разом сдувает с тебя хитиновый покров обиды и недоверия – эти голоса стоят у меня в ушах еще со времен моего романа с самоубийцами:
– Я думала, ты больше не позвонишь.
Жетон был предпоследний, но “церберы” оказались славными ребятами, и вскоре я, потупясь, сидел у них в кордегардии, ожидая звонка. Покуда они неспешно толковали о денежно-вещевом довольствии, я старался как можно тише разрядить накопившуюся лавину сложностей. Это проницательное дитя решило, что за время моей болезни моя жена наверняка проявила такие чудеса самоотвержения, что я теперь и знать не захочу ее, отсидевшуюся в тылу, хотя она, только пустили бы ее на передовую… Голосок ее начинал предслезно дрожать, когда она вспоминала об отнятом у нее шансе на подвиг. Я, прикрываясь рукой, повторял, что ценю прежде всего намерения, потому что лишь они в нашей власти, что дурь не покупается и подвигами, – но совестно было не только перед “Цербером”: меня почему-то скребла фальшь и даже подловатость того, что я столько лет исповедовал и отчасти даже проповедовал.
– Радуга – это одна минута. А я хочу, чтоб я всегда была тебе нужна.
Но я по голосу слышал, что она оживает.
– Как стул? – сурово бросил бежавший через вестибюль Михайлов, в партикулярном платье не столь грандиозный, но все равно прекрасный седеющий витязь.
– Со стульями покончено. – В Ночь Клизм отвечать было проще…
Клизмы, освященные страданием…
Я вышел на бетонное крылечко – травка зеленеет, солнышко блестит… Но уже вспоминается, что всякое блаженство – только отсрочка. И все-таки в каждый миг “не больно” лучше, чем
“больно”. И это максимум, за что в этом мире может самозабвенно сражаться человек. Успокоил Соню – хорошо, можно какое-то время хотя бы об этом не тревожиться. Как это люди могут так нахально шагать, бежать, когда внутри у них при каждом шаге жестоко встряхивается то, что у меня отзывается при малейшем движении?
Главное, чтобы потроха цепко держались за свои места, а в остальном барсук не хуже прекрасного тигра или могучего слона.
Перед крыльцом лежала аккуратная собачья колбаска, и я вдруг почувствовал острую зависть: такая прелестная упаковка.
В решительный час я шел в сортир, как на битву: перекрутил полотенце кулаком, скрючился что есть мочи, придавив бок локтем, а локоть коленом, и, презрев огненную боль и лопающиеся звуки в распластанном боку, двинул ва-банк. Потом долго утирал холодный пот и успокаивал дыхание. Затем созерцал плоды победы, ощупывая совершенно бесчувственный деревянный рубец со слезящимся слепым глазком. Вот эта горстка тронутых чистой алой кисточкой угольно-черных бус едва не отняла у меня жизнь – только оттого, что какая-то трубочка для перекачивания крови когда-то передавила трубочку для перекачивания мочи… Никак не свыкнуться с ничтожностью причин чудовищных следствий. И все равно – ни сказок о вас не расскажут… А вот в макромире сонмище прагматиков, спрессовываясь в Романтика, вполне готово воспевать простейших, убивающих сложнейшее: Ленин в Смольном,
Читать дальше