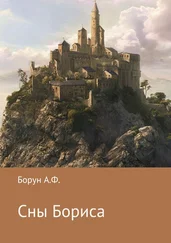Только он мокрый оказался, склизкий и холодный — противный, в общем; но я все же незаметно очистил его от шкурки и, перемогая себя, откусил и стал жевать; колбаса пахла сырым мясом и, к тому ж, на зубах землей скрипела видно, слишком грязный попался; но есть-то хочется, да и не пропадать же куску: пересилил себя, проглотил, снова откусил. А женщина, что за мной, заметила и спросила: «Ну как?» — «Да ничего, — говорю, — есть можно», лень было подробно объяснять. А женщине, похоже, и достаточно, что съедобная. Я же незаметно-незаметно — весь кусок и умял, заморил червячка. Получилось, что и поспал, и поел — все в очереди. Зато полегчало: встрепенулся, смотрю вокруг соколиком.
И тут как раз моя очередь.
А продавщице, видать, надоело иметь дело с женщинами — даже обрадовалась мне: «Ну, наконец-то, — говорит, — хоть один мужчина попался!» — и приглашает к общению: «Сколько тебе чего?» — намекая, что может из личного расположения ко мне отвесить больше нормы. А я гляжу на нее вблизи: лахудра лахудрой, смотреть страшно, так и хочется глаза быстрее отвести: вытравленные перекисью белесые волосы ее торчат, как колтун, из-под какой-то немыслимой шляпчонки с перышком, губы намалеваны морковного цвета помадой, правый глаз насурмлен толстой черной каймой, а левого вообще не видать — заплыл от синего фингала. «Да мне, — говорю, отводя глаза, — как всем вешай, того и другого по три кило!» — «Вот, бабы, учитесь у мужиков скромности! А то из глотки лишнее выдрать готовы!» — гаркнула она тогда женщинам, довольная моим ответом и при этом накладывая мне, в поощрение, того и другого сверх нормы. «Знаем мы тебя! — со смешками откликнулись ей ближние женщины. — Мужика ты не обидишь!» — «А чего ж его обижать? — тут же ответила она им беззлобно. — Вот вас, горлопанок, так и хочется и обсчитать и, обвешать!..»
Дальше, впереди — светлым-светло: там, словно кусочек рая — настоящий, высокий прилавок, а за ним в ореоле света — старшая продавщица, или, может, даже заведующая, вся в белом, тоже с вытравленными волосами, только солидная, объемистая: прямо жрица торговли в алтаре храма!.. А за ее спиной, как иконостас — стеллаж с полками чуть не до потолка, и на том стеллаже — чего-чего только нет, глаза разбегаются: водка в бутылках, прозрачная, как слеза, папиросы «Беломор» в серо-голубенькой упаковочке, сигареты «Прима» — в серо-красненькой, и целые пирамиды консервных банок; тут тебе и «килька в томате», и «минтай в собственном соку», и «треска в масле»; темное повидло в стеклянных банках, а на этикетках — такие румяные яблочки нарисованы, что просто дух захватывает. И венец всего — пузатые трехлитровые банки с огурцами! Слюнки прямо так и текут вожжой, так и льются по кишкам с глухим рыком, как увижу сквозь баночное стекло эти вот хрустящие на зубах огурчики, да каждый — пальцами не обхватить, такой толстый. Какое богатство, какая роскошь! Ох и пиршество же я устрою сегодня, ох и отоварюсь на полную катушку — запомнят мои домашние на целый месяц сегодняшнюю получку!
Здесь, в этом святом, можно сказать, месте, в этом магазинном алтаре даже самые скандальные женщины говорят полушепотом. И сама продавщица, сознавая свое значение, почти ничего не говорит, а если и позволит себе словечко то таким внушительным басом, что покажется, что ты в кабинете начальника: хочется сразу подтянуться и — руки по швам. Причем на меня она даже не смотрит, и я рад, потому что вдруг чем-нибудь не приглянусь и она откажется отоварить? Даже фамилию не спрашивает — сам тихонько называю, и она молча берет истрепанный, с загнутыми уголками многостраничный список, и я, затаив дыхание, слежу за медленно ползущим вниз кончиком карандаша, а сердце обрывается: вдруг моей фамилии там нету? Ведь ничем, кажется, не провинился ни перед кем… А, может, какая девчонка конторская, когда список печатала, меня упустила — ходи потом, доказывай…
Но нет, карандаш споткнулся на моей фамилии, поставил галочку; на сердце сразу потеплело; тот же карандаш затем в нескольких графах против моей фамилии решительно поставил несколько крестиков; графы эти я уже наизусть знаю: «водка», «рыбные консервы», «повидло», «маринад»; только перед графой «табачные изделия» карандаш опять запнулся, и продавщица посмотрела на меня пронзительно. Я, даже не моргнув, выдержал взгляд и сказал твердо: «Беломор»! Тогда она поставила последний крестик и, ни о чем не спрашивая, начала выкидывать на прилавок консервные банки, затем — стеклянные, с повидлом и огурцами, и вывалила тридцать пачек — на каждый день по пачке! «Беломора»; самым последним движением она выставила две бутылки водки. Будто две жирных точки поставила.
Читать дальше