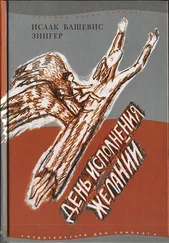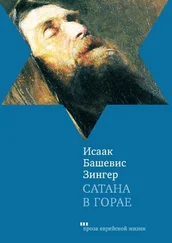— Значит, нельзя стрелять из ружей! — воскликнула Кароля.
— А из чего? Из палок?
— Я против террора!
— Значит, Кароля, вы не против того, что миллионы крестьян умирают от голода, а тысячи углекопов погибают в шахтах, — возразила Эдзя. — С этим вы примирились. Для вас главное — сохранить свою мораль, верно?
— Почему свою? Нашу общую.
— Когда вы разочаруетесь в нашей морали, вам останется отцовская фабрика. А что останется нам? Ничего, кроме цепей!
— Вы хотите меня оскорбить.
— Эдзя, это некрасиво, — вступилась за Каролю Эстер Ройзнер. — Она не виновата, что у ее отца фабрика.
— Я и не говорю, что она виновата. Но то, что все противники террора сами из буржуазии, это факт. Просто боятся за свою шкуру.
— Вы уже на личности переходите…
Каменецкий, молодой человек в пенсне, до сих пор молчал, но вдруг вступил в разговор.
— Наша дискуссия теряет смысл. Я бы сказал, становится слишком односторонней, — начал он, теребя кисть на поясе. — Мы говорим так, будто что-то зависит от нашего решения. Фактически же все зависит от обстоятельств. Никто не может предвидеть, что произойдет, когда массы потеряют терпение и, так сказать, на пороховую бочку упадет искра и раздастся взрыв. Все наши теории ничего не стоят. Фактически мы те, кто расчищает путь, если можно так выразиться, но, когда плотина прорвется и поток хлынет во все стороны, стихия нас не спросит, на что ей обрушиться. Легко может получиться, что массы возглавит кто-нибудь из народа, простой рабочий или крестьянин, в то время как теоретики будут стоять в стороне, не зная, что делать. Очень просто. Революцию невозможно спланировать, как архитектор планирует дом или инженер машину. Тут действуют непредвиденные природные силы. Эксплуатируемые массы становятся как наэлектризованные, да, наэлектризованные. Они ведут себя не как индивидуумы, но как коллектив, и вопрос морали отпадает сам собой. Спросите у водопада, или шторма на море, или саранчи, почему они поступают так, а не иначе. Наружу вырываются слепые силы, чисто физические, хотя нельзя отрицать, что психология тоже играет определенную роль…
— Что вы, собственно, хотите доказать, Каменецкий? — строго спросил Блайвайс. — Все и так знают, что революция — не игра. Но откуда у вас этот страх? И зачем отрицать значение тех, кто готовит почву для восстания? Такой революции, как вы тут описали, никогда и нигде не было, ни в тысяча семьсот восемьдесят девятом, ни в тысяча восемьсот сорок восьмом, ни в тысяча восемьсот семидесятом. Насколько я знаю — а я немного изучал этот вопрос, — каждое восстание было подготовлено, и никто не полагался на чудо или на то, что вы называете стихией. Когда я слышу болтовню о какой-то мистической стихии, которая, как ураган, сметет все зло, я всегда подозреваю, что это попытка снять с себя всякую ответственность и взвалить ее на неопределенное будущее, на что-то вроде библейской войны Гога и Магога. Я вижу в этом стремление отвертеться от черной работы. Так и к мессианизму Товяньского скатиться недолго…
— Не знаю, почему вы так превратно толкуете мои слова. Я не имел в виду ничего подобного.
— Иногда нужно вникать не только в слова, но и в то, что за ними стоит, — как говорится, видеть между строк. Сейчас в Польше и России немало интеллигентов, которые любят революционные фразы, но их истинная цель — чинить препятствия…
— Кто эти интеллигенты? Зачем им это надо? Можно расходиться во мнениях, спорить о методах, но зачем обвинять во враждебных намерениях тех, кто приносит себя в жертву нашему делу? Насколько я знаю, охранка не видит разницы между народовольцами, социал-демократами и польскими пролетариями. Разве это не значит, что все они ее враги?
— Это ничего не значит. Факт, что некто попадает в тюрьму или в архангельскую ссылку, где играет на пианино для губернаторской дочки, не имеет большого значения, если мы не представляем себе ясно, за что он туда попал, что сделал, что сказал. Вот наша подруга Кароля не признаёт террора, хотя бывают случаи, когда террор необходим, когда он остается единственным оружием против эксплуататоров. Во время революции она бы учредила суд моралистов, который бы каждое деяние рассматривал с точки зрения абсолютной этики. И у вас тоже каша в голове, только другая. Для вас революция — что-то вроде землетрясения или извержения вулкана.
— Вы приписываете мне слова, которых я не говорил.
— А что вы понимаете под стихией?
И Блайвайс пристально посмотрел на Каменецкого с самодовольством преподавателя гимназии, который экзаменует нерадивого ученика. Каменецкий нервно намотал на палец кисть пояса, покраснел, потом побледнел. Его лицо пошло пятнами, левой рукой он снял пенсне, протер о рукав и снова водрузил на переносицу.
Читать дальше


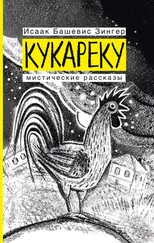

![Исаак Башевис-Зингер - Короткая пятница и другие рассказы[Сборник]](/books/148307/isaak-bashevis-thumb.webp)