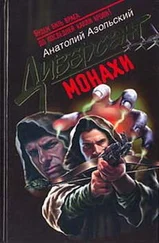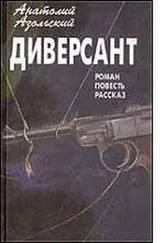— А они знают, что ты их спас?
— Наверное… А может быть, и не знают.
— А намекнуть ты им об этом можешь?
— Зачем? Это же опасно — и для меня, и для них.
— Почему? — Она приподнялась: локоть в подушке, ладошка поглаживает лоб Афанасия.
— Потому что они озлобятся, когда узнают, что вынес я все допросы и ни одной фамилии не вписано было в протокол.
— Озлобятся?
— Конечно. Кому хочется знать, что жизнь твоя спасена человеком, которого ты же и оклеветал. Я о себе такого прочитал… И под всеми глупостями и мерзостями — подписи боевых товарищей… Тех, с кем тянул лямку.
— Но не они же обвинили тебя в измене Родине?
— Это в воздухе носилось — измена эта. Все верили, что найдется смельчак, который захочет перебежать на сторону американцев. Война ведь шла, корейцы с корейцами, за одних мы, за других американцы.
Вот я однажды в перерыве офицерской учебы и провел указкой по карте, от полка до Корейского полуострова — вот, мол, каким путем пойдет полк выручать корейцев. А замполит стукнул: лейтенант Карасин замыслил увод полка в Корею и так далее… Не мог не стукнуть: в воздухе, повторяю, носилось.
— А ты бы и сам замполита обвинил в чем-либо. В воздухе, сам говоришь, носилось.
— Носилось-то носилось, да штука такая есть, регулятор исторических процессов, свободная человеческая воля, она равно обязывает и лгать, и говорить правду.
— Ты всех возненавидел?
— А никого. Все же сидели по начальственной дури. Ну, объявили бы по радио и газетами, что все блондины — враги. Или брюнеты. И легче бы стало блондинам или брюнетам.
Рука ее постепенно охладевала, становилась почти ледяной, потом кожа возгоралась, затем жар сменялся холодом… Овешникова раскачивала температуру своего тела, и Афанасий дышал с трудом, борясь с желанием, которому дано было удовлетвориться только тогда, когда Овешникова разожмет внутренние объятья.
О себе она говорила мало, но и недомолвок хватало для полной картины, и Афанасий жалел не эту, рядом лежавшую женщину, а девчушку-десятиклассницу, осознавшую непригожесть свою, не умевшую так представать перед мужскими глазами, чтоб те неотрывно следили за ее бедрами, руками, поворотами головы; тогда и научила Овешникова свое тело, сцепленное с мужским, тому, чего не найдешь ни в одном пособии по любви в постели. На заводе же пряталась, в спецовку рядясь, волосы, не потерявшие жгучести и пышности, скрывала косынкой и беретом, куртка и юбка — размером больше, чтоб ткань обвисала. В консерватории (она любила Гайдна, Баха, Берлиоза) на нее, с изыском одетую, но с налетом легкой распущенности, оглядывались в фойе; в гардеробе она торопливо совала руки в подставленные рукава пальто, стремительно увлекала Карасина за собой, шли по Герцена, оба улыбались, — так хорошо было им, так приятно!..
Мать, очки опустив и губы поджав, осматривала его, домой возвращавшегося. Она была очень дурного мнения о той, которая так и не станет матерью ее внуков, а уж то, что сын на этой не женится, знала точно, и сколько лет этой — угадала. Беспощадная материнская проницательность давно уже пугала Афанасия. Сразу после выпуска и на пути к месту службы приехал он домой, не один, с одноклассником, другом всех курсантских лет, и мать, провожая их на вокзале, отвела Афанасия в сторонку и шепнула, что друг-то его — подлец, от друга держись, сынок, подальше!.. Он тогда рассмеялся, а оказалось (прочитал потом у следователя), что мать-то — провидица. О сущей мелочи упомянул друг, они как-то кутили с девицами в привокзальном буфете, долгожданного пива тогда завезли на станцию, с пива Афанасий и провозгласил, из-за стола выбираясь: «Ну, пусть лучше лопнет совесть, чем мочевой пузырь!..» А друг слова понял иначе: «Что касается нравственного облика Афанасия Карасина, то могу с уверенностью сказать: мораль нашу он презирал. Так однажды…»
Передовой завод, осыпанный знаменами и благодарностями, удостоился и денежных премий, выдали их под ноябрьские праздники, и пятый этаж заводоуправления справедливо полагал, что дежурные смены могут сильно поредеть, просачиваясь через бдительное сито проходной, либо, просочившись, не отвечать ни на какие вызовы, а те неизбежны, поскольку некоторые цеха обязали трудиться в утреннюю смену 8 ноября: продукция за этот день пойдет в счет октября, только тогда выполнится месячный план, о нем, кстати, отрапортовали заранее.
Работать в этот день 8 ноября никто, конечно, не желал, пришлось раскошеливаться, всем обещали выплатить праздничные да еще и за якобы аварийные работы с двойной оплатой, и уж чтоб никаких подмен не было — полный состав утренней смены 8 ноября объявили приказом.
Читать дальше