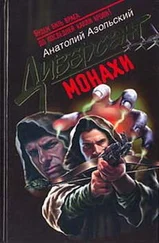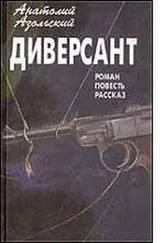— Стой! — вновь заорал он, ужаснувшись тому, что может произойти: на этой подстанции трансформатор размером меньше, ножи рубильника всего на метр выше человека. — Дура! Что делаешь?
Она огрызнулась.
— Молчи! И стой за щитом! Смотри за приборами!
И начала включать и отключать. Карасин видел и метавшуюся стрелку амперметра, и три голубовато-желтых пятна, возникавших там, где ножи рубильника начинали медленно извлекаться из губок, и как только стрелка скакнула и замерла, заорал: «Хватит!» Кабель обесточился, он был пробит так основательно, что теперь спецлаборатория запросто определит место, над которым взметнутся лопаты, роя яму, а кабель разрежут, поставят муфту, и лакокрасочный цех теперь станет работать нормально, выполняя и перевыполняя планы…
Только теперь Овешникова выдохнула:
— Все…
Она пятилась, отходя от рубильника, рукавом протирая глаза, ослепленные сине-оранжевыми искрами… Дошла до Карасина, коснулась спины его — и он обнял ее. Она прижалась к нему, потом вспомнила, что руки — в резиновых перчатках, и он сам стянул их с потных ладоней. Сдернул и берет с головы, уткнул нос в черные волосы. Так и стояли, долго и молча, уже зная, что придется делать им, и хотя сделать это можно было здесь же, оба понимали: нужно продлевать это приближение к неминуемому, на несколько часов отодвинуть неизбежность.
Выйдя из подстанции, они тут же отделились и пошли каждый к себе, как чужие и незнакомые. Афанасий в кабинете набрал номер дачного поселка, предупредил коменданта о скором приезде; не переодевался, успел только схватить кошелек, выметнулся вон; вахтерша в сонной одури даже не глянула на него, как и на Овешникову, которая тоже не стала переодеваться; и ему, и ей казалось, что душ смоет с них нечто организму ценное, а обычная — для улицы и дома — одежда так прилипнет к ним, что нельзя уже будет сбрасывать ее. Разделенные десятью метрами, они углубились в квартал пятиэтажек, чтоб выйти к шоссе и автобусам; здесь наконец-то они взялись за руки, они шли по улице, глядя в разные стороны, она — на стены домов, он — на проезжавшие автобусы. Около 16 часов было, когда они порознь миновали проходную, до электрички — минут пятьдесят, не больше, но почему-то часы их показывали шесть вечера. Им надо было тянуть время, выжигать горючее, как делают это пассажирские лайнеры перед аварийной посадкой; они освобождались: он — от прежних женщин (и Тани тоже), она забывала о десятках мужчин…
Вагоны электрички переполнены, толпа прижала их в тамбуре друг к другу, они наконец-то обнялись так крепко, что могли сблизиться и губами. Иногда та же толпа выбрасывала их на платформы станций, они возвращались в тамбур; где, на какой станции выходить, Афанасий не знал, потому что к дачному поселку их с Белкиным подвозили на автомашинах. В очередной раз толпа потащила их наружу, но обратно теперь они не вернулись. Так и не расцепив руки, шли они через лес, продолжая молчать, ни единым словом не перекинувшись. Никто не встретился, ни у кого не спросишь, где дачный поселок, но и спрашивать не надо, Афанасия вело чутье. Второй с краю домик, здесь комендант, Афанасий постучал в окно, получил ключ; в домике — ни стола, ни стула, ни кровати, но большего им и не надо было. Кроме Луны: легли на освещенные ею половицы, голышом; много слов сказано было, но бессодержательных, слова были — как птичье щебетание, без которого летний лес не лес.
Поднял их восход солнца. В домике — ни тряпки, ни кувшина с водой.
Пошли обратной дорогой к электричке, теперь иная толпа ехала, работящая, та, что наполняет цеха и конторы столицы. Стояли, прижавшись друг к другу. От них пахло лесом и болотом, от них разило случкой, что манило к ним людей в толпе, но и отвращало.
— Поезжай домой, — строго сказала она ему на вокзале. — Ты работаешь с высоким напряжением, ты устал, ты должен отдохнуть…
И ничего, со стороны глядя, не изменилось: встречались на заводе редко, телефон соединял их кабинеты с 08.30 до 17.00, но говорили они мало, почти не говорили. В дачный домик по Павелецкому направлению не ездили, Овешникова сняла квартирку на Лесной, что-то приносила с собой, долго стоять у плиты не умела, да и другие желания одолевали: не до еды, не до питья; обнимала Афанасия и не выпускала его из объятий часами, она умела исторгаться без движений мужского тела, она обладала даром внутренних телесных объятий и разъятий, а когда уставала, то осторожно расспрашивала Афанасия о прежних женщинах, о родителях, о том, как попал в тюрьму, как мотали его по лагпунктам. Да все просто — так отвечал; жизнь в неволе разнообразилась полетами фантазий тех, кому наиболее всех скучно было, то есть разным там чинам из лагерного ведомства. За шесть лет много чего повидал, но, пожалуй, самое приятное в том, что так и не увидел он на очных ставках тех, кого ему настоятельно советовали оболгать; ни один офицер в полку не пострадал, а следователям — для собственного утверждения и в карьерных нуждах — так хотелось обвинить их чуть ли не по всем пунктам 58-й.
Читать дальше