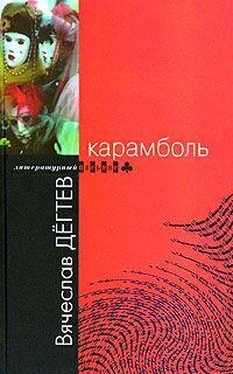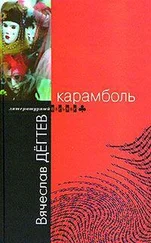А теперь ничего этого нет. И давно. Дом отсудила первая жена, сказав на прощанье пару ласковых — про руки-ноги и забор, сирень заглушил дикий хмель, голубей пожрали кошки, в яме, где был пруд, — мусорка, а лебедя загрызли соседские собаки. Сыновья сторонятся тебя, встретишь на улице — отворачиваются, и тебя к ним уже и не тянет. И ты, честно говоря, об этом уже не жалеешь — так легче всем. Могилы дядьев заросли сиротской травой, бурьяном и крапивой, а за тот бесхитростный этюд в сиреневых тонах заплатили такой мизер, что и говорить-то стыдно, — как за грязную тряпку.
Радостно ли вам, дяди милые, смотреть на это все оттуда?
За восемь бед — один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет, я в нем валялся, — это уже телевизор гремит из коридора, — врач резал вдоль и поперек, он мне сказал: держись, браток, он мне шепнул: держись, браток, — и я держался…
Однажды тебе надоело быть на обочине, нищим и жалким. Надоело прогибаться перед сильными и перед самой жизнью. Увы, пейзажи да церковки твои никому, оказалось, не нужны, и доказывать что-либо иное не стоило труда. Ты зашел в тупик. И вот как-то во сне явились дядья и сказали: «Что менжуешься, как фраер-перводельник? Сбацай что-нибудь из блатной музыки и греби себе бабки хоть лопатой!» И, проснувшись, ты набросал нечто: вот руки, они держат трепетную розу, их обвивает ржавая, грубая проволока, а по рукам наколочки. Скомпоновал ты с соловушкой в клетке и назвал: «Сгубили юность и талант». А вот, пацаны, парусник, с понтом от бури бегущий, а там фрегат с черными парусами и с алыми, и на палубе братва стоит, качаясь, с бутылками и ножами, а рядом реют альбатросы, и названия соответствующие: «На судне — бунт», «Над нами чайки реют».
Лиха беда начало. Начал — и пошло! Были пронзенные финками букеты роз («А я-то ее, суку, любил!»), были ангелы, сидящие в позе роденовского «Мыслителя», с подрезанными крыльями («Тоска по воле»). Но особенно выделялась критиками серия «женских» портретов: вот волосатая спина и ниже, на мускулистых ягодицах, выразительные глаза с подведенными ресницами и название — «Светка»; вот испитое лицо плохо выбритого, забитого мужика с гноящимися веками, с наколотыми вокруг полумесяцами, и подписано: «Вафлерша Маня»; отдельно отмечался суровый слон с клыками, похожими на кинжалы, который колокольчиком в хоботе отбивал кому-то срок оставшейся жизни («Смерть легавым от ножа»), а вот…
На тебя сразу же началась мода. Твои картины стали покупать. Их хватали. Как колбасу. Покупали в основном ребята в шикарных, но угловато сидящих костюмах и с синими от наколок пальцами. Наперебой хвалили. И хвалили, как ни странно, в основном рафинированные литературные дамы; на страницах толстых и тонких журналов глубокомысленно рассуждали они: наконец-то, дескать, и в нашей живописи появился мужской элемент. Акселератки писали тебе двусмысленные письма. Всякая урла признавалась в любви и справлялась, где, по какой статье сидел, по какой канал масти. Это была слава. И ты поверил, что дождался своего звездного часа. Как мало, оказывается, для этого нужно. И до чего все просто! Захлебываясь, ты рассказывал:
— Приезжаю. Два десятка наших художников с церковками. И я среди них — самый-самый!
Или:
— Пока они там тусовались: «Россия! Русь-душа!» — я три фрегата толкнул, да за зелененькие!
Париж, Лондон, Амстердам — вот что стало все чаще и чаще появляться на твоих устах. И как бывало сладко иногда сказать вот такое:
— Приехали двенадцать то-олстых членов всяких там академий не академий… Пока они там базарили насчет сверхзадачи да экспозиции, народ вокруг моего «Опущенного» дорогу в ковре выбил. Продал — все!
Приглашения сыпались одно заманчивей другого. Ты мотался по Европе, как по собственной квартире. Чувствовал: на тебя поставили. Перед тобой расчищают дорогу. Это льстило. И лишь иногда убийственный вопрос вышибал тебя на минуту из этого дикого ритма: ну и что? и это — все? Ты счастлив? Но ради чего все это? Дети… жены… близких нет, друзей, любимых растерял… Так для чего вся эта возня? Ради искусства? Но тогда почему же многие художники перестали с тобой общаться? Ты говорил, успокаивая себя: у зависти не бывает выходных. Не-ет, давали тебе понять — это не зависть, это презрение: рисуешь, парень, верно, да скверно. Ты окорачивал себя: хватит комплексовать! Не надо валить все в одну кучу. Весь в дядьев: те тоже очень любили мешать одно с другим, не желали пить просто вино или водку — подай им коктейль, какого-нибудь «бурого медведя» или «кровавую Мери».
Читать дальше