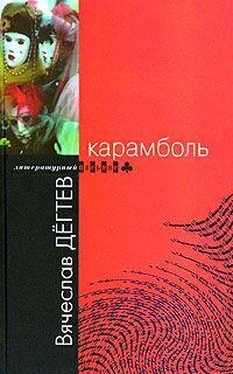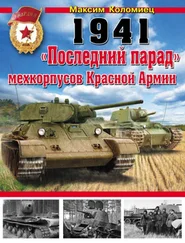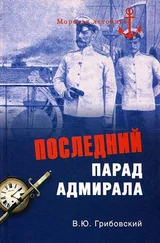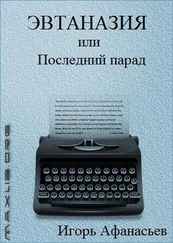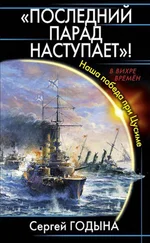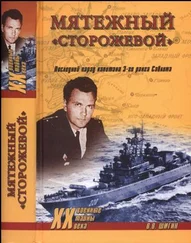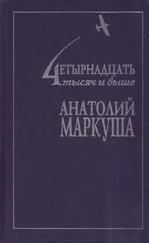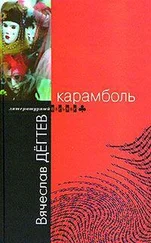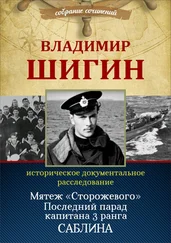— Да-с, — сказал Доктор, наливая мне чаю без сахара — вредно, белый яд! — измельчал народец, наш брат птицелов. То ли дело — раньше. Вот, послушайте…
С этими словами он согнал с белоснежной полки вороного кота, взял старинную книгу, завернутую в бумагу, раскрыл ее на закладке и прочел одним духом: «…замечательная охота была у Ивана Петровича Кирильцева. Это был выдающийся охотник и глубокий знаток по соловьям; о птице его так и говорилось в то время: „кирильцева кличка“. Многие охотники прибегали к нему с просьбой подвесить молодых. У него, между прочим, была замечательная ночная птица, заплаченная 2000 рублей, какого сорта, с какими песнями, — нам сообщать не могли, но известно, что ему привозили соловьев из Тулы и из Курска. Печальное воспоминание осталось об этом замечательном охотнике и прекрасном человеке: он занемог, огорчившись потерею своего лучшего соловья, слег, и здоровье к нему не возвратилось… Случилось так: охотники, собравшись к нему „слушать“, в восторге слишком зашумели соловью, когда тот кончил петь, закричали, застукали ногами и стульями, соловей испугался, бросился по клетке и пошибся. Это было последнее собрание у Ивана Петровича. Таковы были охотники в старину».
…Помню, тогда меня сильно поразил этот текст. Теперь-то понимаю, что неспроста он тогда меня поразил…От восхищения я тогда прямо дар речи потерял. А Доктор вздохнул сокрушенно: — Да-с, были люди… Существовали такие понятия, как предназначение, призвание, миссия, если угодно — харизма; многие ощущали на себе избранность, печать Божию. А что сейчас? Биороботы с конвейерным мышлением, где душа в схеме не предусмотрена. Нельзя же, в самом деле, торговлю шкурами исключительно ради чистогана считать призванием, миссией, харизмой? — И вдруг глаза его засияли. — Слушайте, а может, у Парикмахера есть что-нибудь интересное? У того, который «Пикассо»…
Через час я был у Пикассо. Жил он на самом краю Чижовки, в далеком прошлом «слободы беломестных атаманов», — на Бархатном Бугре. Уже сгущались сумерки. Из лога, от «моря», тянуло прохладной сыростью, в кущах Чижовского леса заливались зеленушки-распевы, очень, кстати, посредственные. Над встопорщенными крышами стлался розоватый туманец, в котором чувствовались и укроп, и мята, и чабрец, и что-то, кажется, еще.
Когда-то Чижовка гремела на всю округу голубями. «Белозобые», «арапы», «жуки», «ленчатые», «крестовые»… Каждый уважающий себя жиган имел кастет, черную бобочку, золотую «фиксу» и хотя бы парочку таких турманов. И на Гусиновке, и на Монастырщине тоже водились недурные голуби, но таких, как на Чижовке, не было турманов, хоть весь город обеги. Бывало, так далеко залетали в голубое поднебесье, так высоко возносились те самые «козырные», которых называли еще «зоревыми», — на вечерней заре улетали, возвращались лишь под утро, — что рассмотреть их не было никакой возможности. Тогда ставили таз с водой, и ловили отраженье, и смотрели, и любовались на то отраженье… Таких голубей, понятное дело, частенько крали. Не только ухари с Отрожки или Песчановки, но и свои промышляли, чижовские. Чего только не выдумывали, чтобы упереть чужое сокровище: и самками переманивали, и силки ставили, и пьяным зерном кормили, и даже кобчиков держали, чтобы сбивать отставших от стаи, и просто лазили ночами по голубятням. Наутро хозяева потерю с проклятьями искали. И частенько находили… До смертоубийства дело доходило. Да! Были времена.
Тогда-то и появился некий тайный голубиный парикмахер. В те времена послевоенные он пижонил: летом в матросских клешах и рубахе из парашютного немецкого шелка, с полубоксом на голове, а зимой — в генеральских бурках и синем полупальто с каракулевым воротником; во рту — полная пасть желтых «маслят». Он голубей стриг, красил, делал им химическую завивку, даже менял маховые перья — обрезал их до самых трубок и вклеивал в трубки чужие перья. А чтоб голубь не успел повыдергивать неродные перья, пока клей не схватился, сушил несчастную птицу над горящим примусом, растянув за крылья. Наутро голубь продавался на базаре, и случалось, сам хозяин не угадывал его — голубь обрадованно шел к хозяину в руки, а тот равнодушно отворачивался с тоской в глазах.
Вот такие, хочется повторить… И вот я увидел Парикмахера, эту легенду из детства, живьем. Он оказался глубоким стариком. Однако во рту сверкали отличные фарфоровые зубы, на ногах, несмотря на лето, белели новые бурки, на голове синела комсоставская фуражка из забытого габардина, на правой руке желтел массивный перстень с профилем усатого вождя, а на морщинистой шее — толстая витая цепь. Я с одного погляда понял, что Пикассо и теперь — при «деле».
Читать дальше