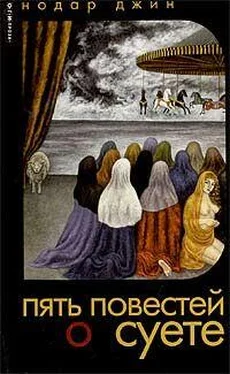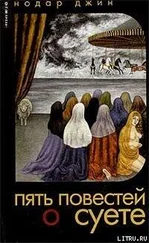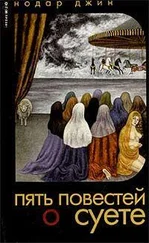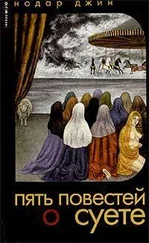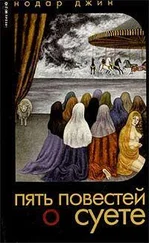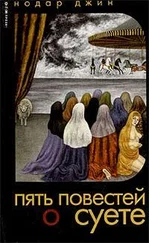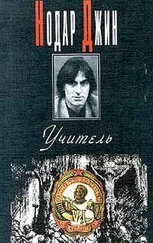— Это хорошая фраза, — сказал я, — потому что жизнь не для покойников. Особенно — если эмигрант.
— Каждому своё! — пропустил это Карлос. — У всех в мире свой гардероб. В балете — тоже своя обувь…
Говорить стало не о чём. Танцор покрыл критика пледом и посмотрел вопросительно на Карлоса.
— Я тоже пойду, — буркнул я. — Дайте мне только пару долларов. Да? И не обижайтесь, пожалуйста… Я всё-таки нашёл вам критика…
Они переглянулись. Карлос полез во фрак, вытащил пачку однодолларовых бумаг, отстегнул две, потом приложил к ним визитку и протянул руку.
И мы разошлись.
Канистра была теперь легче: протекло много. Шагалось мне, между тем, тяжелее.
На перекрёстке я отыскал их взглядом. Среди притихшего города, в полутьме, Карлос во фраке и танцор в мерцающих ботинках, оба полусогнувшись, подталкивали своего Киссельборга в гору. И всех их троих, да и самого себя, четвёртого, каждого из тех, кого вокруг не было видно и кто проснутся завтра в этих домах и разъедутся по городу в этих автомобилях, в том числе Чайковского с гитарой, даже Айвазовского с полковником Фёдоровым, Зарю Востока, юную семинолку, Бобби из ФБР, пакистанца с бензоколонки, — всех вокруг мне стало так жалко, что внутри больно защемило. Все они представились мне такими, какие они есть, какие есть и дожидавшиеся меня на кладбище петхаинцы: побеждённые, потерянные и жаждущие тепла.
И таким же представился себе я сам — смешным, ничтожно маленьким и лишённым любви.
Я взглянул вверх, на прожжённую звёздами и присыпанную пеплом молитвенную шаль из крохотных облачных лоскутов и искренне пожелал всем победы.
65. Молчание есть не мудрость, а молчание
Хотя было уже поздно для того, чтобы торопиться, я, завидев «Додж», побежал к нему, опорожнил канистру и вышвырнул её с грохотом вон. Бензина оказалось в ней меньше половины. Я громко и грязно выругался в адрес Пакистана, сплавившего мне брак. На шум в окно надо мной высунулись круглолицые супруги, отказавшиеся недавно одолжить десятку.
— Чего, дурак, буянишь? — крикнул супруг, а супруга добавила, что час поздний. И тоже назвала «дураком».
Жалость к человечеству у меня мгновенно улетучилась.
— Пошли вы все в жопу! — распорядился я.
Исчезли. Пошли то ли туда, то ли за двустволкой. Я влетел в «Додж» и крутанул ключ. Приученный к невезению, ждал, что мотор откажет, но он сразу же взревел сытным голосом — и через минуту я мчался в пустом тоннеле по направлению в Квинс.
Под землёй невольно представил себя мертвецом.
Думать об этом не хотелось, но я вспомнил, что в моей голове нет ни единого мускула, способного отключить мысль. Как, например, смыкание век отключает зрение. Универсальность этого дефекта устрашила меня. Человечество состоит из круглолицых супругов, пакистанцев, полковников фёдоровых, айвазовских, семинолок, танцоров — и, увы, никто на свете не способен перестать думать!
Додумал свою мысль до конца и я. Мне показалось, будто все на свете люди уже когда-то прежде жили и подохли, а теперь находятся «по другую сторону дыханья». И будто, стало быть, этот, живой, мир на самом деле есть загробный, то есть ад, — но никто этого не понимает.
Смешно.
Особенно — если представить себе петхаинцев, которые, рассевшись на могильных плитах кладбища «Маунт Хеброн», дожидаются гроба. Ждать им уже, наверное, надоело, но никто этого выказывать не смеет. Даже моя жена, постоянно поражавшая меня бесхитростностью. На кладбище все робеют. Тем более петхаинцы, потому что это — не обжитое пока и чужое кладбище. И ещё потому, что они дожидаются там Нателу, перед которой каждый из них ощущает вину.
Чем же они там занимаются? Кто чем, наверное.
Одни осматривают могилы и восторгаются порядком, который на Западе — в отличие от Петхаина — царит даже после смерти.
Другие восхищаются роскошными склепами, трогают их и вздыхают, ибо на подобные им денег уже не заработать: надо было двигать из Петхаина раньше! Или — наоборот — жалеют тех, которым понаставили куцые базальтовые плиты. Жалеют, но гордятся тайком, что, хотя сегодня могут заказать себе камень подороже, они всё ещё живы.
Третьи вспоминают, что им не миновать смерти — и подумывают о разводе.
Ещё кто-нибудь просто проголодался, но никому в том не признаётся: стыдно думать о пище среди мертвецов.
«Хотел бы сейчас баранины?» — спрашивает его ещё кто-то с таким видом, словно вспомнил о ней только чтобы нарушить тишину.
Читать дальше