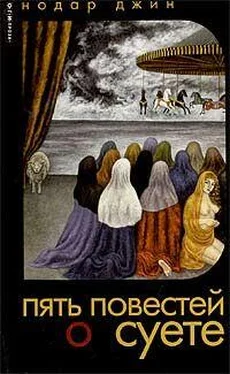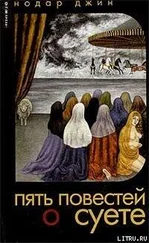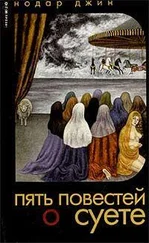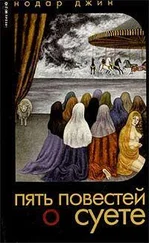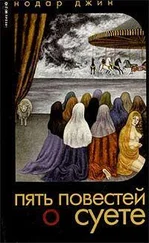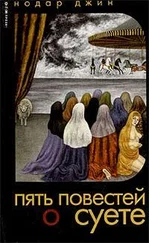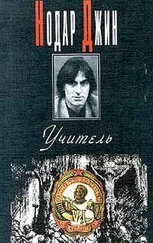Покрытый с головой жарким талесом, обливаясь потом и трепеща, Мордехай подошёл к белому Ковчегу и замер перед ним.
За долгие годы он перестал бояться многого, но благоговейный страх перед Торой стал сильнее, ибо освятился уже и мыслью. Хотя он мечтал об этом с детства, ему не приводилось открывать дверей Ковчега, и никогда ещё не обдавало его живительной прохладой из этой стенной ниши.
Со временем Мордехай стал страшиться своей мечты, понимая, что именно такого страха и требует Бог. Как такому же страху и обязан Иерусалим величием и бедами. Даже Моисей трепетал, принимая от Бога Тору и обращая её к народу.
В зале стояла кладбищенская тишина.
— Веити адонай ленегде! Перед Тобою стою, Господи! — прошептал Мордехай ритуальную фразу и потянулся к двери…
В прохладной глубине Ковчега стояла юная, нагая и прекрасная Лия.
Белое спокойствие её грудей подрывали пробившиеся наружу тёмные стебли сосков.
В протянутых к Мордехаю руках она держала свиток, закутанный в синий бархат.
Её мерцающие светом локти подрагивали, и мелко звенели серебряные подвески на Торе.
Когда Мордехай забрал у неё груз и прижал его к себе, Лия проговорила:
— В руки твои я отдаю мою душу, Мордехай!
В это мгновение в зале было и тихо, и светло, но никто так и не услышал Лию. И никто её не увидел. Ибо люди — когда они вместе — доверяют не правде, а друг другу.
40. В её зелёных глазах стыла смерть
После многолюдного и шумного ужина в доме Лии и Габриела Зизовых в роскошном районе за пределами Петхаина, после весёлых тостов за Исход и счастливых возгласов «Дайену!», во время которых Лия поглядывала на него с затаённой печалью, Мордехай Джанашвили, уставший от ненарушимости жизни, поспешил вернуться в еврейский квартал, где в окнах покосившихся домов уже не было света, а звёзды прикрылись облачными лохмотьями.
Мордехай, тем не менее, уверенно углублялся по узким проулкам Петхаина в его самые тёмные недра. Каждую дверь и табличку на ней он узнавал во мраке с той же исчерпывающей ясностью, с какой представлял себе любой уголок в человеческой плоти.
Синагога была заперта, но, как в детстве, он забрался в неё через подвальное окно с развинченной защёлкой. Поднявшись в зал по обросшей паутиной лестнице и подойдя наощупь к двери Ковчега, вздохнул и с колотящимся сердцем прошептал:
— Все ушли, Лия, и никого тут нет. Выйди и уйдём отсюда в Иерусалим, потому что прошло много времени, но по-прежнему, видишь, сильна, как смерть, наша любовь!
После зловещей паузы двери Ковчега вдруг скрипнули и медленно отворились.
В дверях стояла юная и нагая Лия, но как только она протянула к Мордехаю мерцающие светом руки и шагнула к нему из тёмной прохлады, — в то же самое мгновение раздался оглушительный гром, словно по жестяной крыше синагоги полоснул карающим скипетром неусыпный пророк Илья. И вспыхнула молния, ослепившая зал первозданно чистым светом.
Когда глаза Мордехая снова привыкли к темноте, Лии уже нигде не было, а Ковчег дымился холодным паром и зиял мёртвой пустотой.
В то же самое мгновение в другом конце города, за пределами Петхаина, где тишина уже совсем истончилась, раздался протяжный женский крик. Габриел Зизов вскинулся в постели и сбросил с жены одеяло, но было поздно: Лия, первозданно белая, лежала на голубой простыне нагая с раскинутыми в стороны руками, и в её зелёных глазах стыла смерть…
41. Заслуживают ли люди вокруг нас нашей печали?
Когда плакальщица Йоха закончила эту историю, я помолчал. Потом всё-таки собрался с мыслями и спросил:
— Отчего же, значит, Лия умерла?
Йоха пожала плечами. Все, мол, видели, что умерла, а отчего — неизвестно.
Повёл плечами и я: Такого не бывает.
Так же поступали все, кто эту историю слышал от Йохи впервые: Спасибо, но не верим.
Плакальщица этого только и ждала: вздыхала и, разводя руками, как на сцене, говорила всем слова, которые сказала и мне:
— Многие не верят, особенно те, кто не знал Лию, но разве дело в них? Дело и не в тебе, если не веришь и ты. И не в Мордехае, который вернулся в Иерусалим. Не в Лие даже, на чьей могиле — пойди и посмотри — не просох и никогда не просохнет песок… Эта история — для тех, у кого ещё есть слёзы, но — стыдится плакать.
Я Лию знал. Знал и то, что Мордехай Джанашвили был знаменитый врач и действительно приезжал из Иерусалима на один день. И что Лия умерла то ли в тот же самый, то ли в следующий. Не ясно мне было другое: любили ли они друг друга в самом деле или их любовь была домыслом Йохи, рассчитанным на то, чтобы заставить петхаинцев поплакать над собственными бедами.
Читать дальше