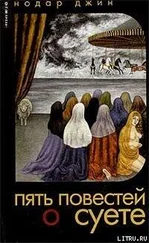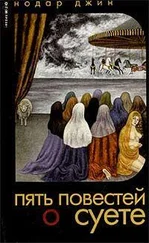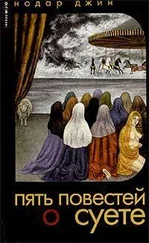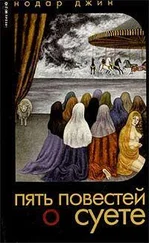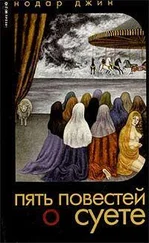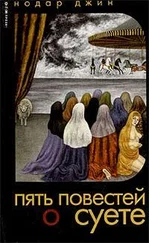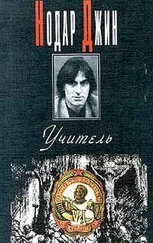Нодар Джин - История моего самоубийства
Здесь есть возможность читать онлайн «Нодар Джин - История моего самоубийства» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:История моего самоубийства
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4.67 / 5. Голосов: 3
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
История моего самоубийства: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «История моего самоубийства»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
История моего самоубийства — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «История моего самоубийства», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Субботы там не было; были арабы и арабки, причем, эти — в белых, а те в черных куфиях. Мужчины щеголяли складными телефонами бирюзового цвета, на которых время от времени выщелкивали номера, но — никуда не дозванивались. Отчаявшись, я пристроился к пожилой супружеской паре из Арабских Эмиратов и в надежде на скандал предложил им выпить водку за добропорядочность малых и, стало быть, слабых стран. К моему удивлению, выпили оба, хотя супруга разбавила водку апельсиновым соком, после чего ей стало жарко, и — к несчастью — она сбросила с лица черный наносник, в результате чего мне открылся вид на ее большой скосившийся нос с густым пучком волос из ноздрей и начисто выщипанные брови.
Зато араб теперь уже стал заказывать водку сам, требуя у меня поддерживать один и тот же тост за то, чтобы Аллах никогда не согласился претворять в явь человеческие сны. Еще он время от времени жаловался на территориальную отдаленность того же Аллаха от Арабских Эмиратов и территориальную же близость к Эмиратам маленького, но отнюдь, увы, не слабого и не добропорядочного еврейского государства. Потом сказал, что я ему нравлюсь, а поэтому, хотя правду всегда говорят с целью, он будет сообщать ее мне бесцельно. И пока его расхрабрившаяся от водки супруга заигрывала с гладко отполированным апельсином, перебрасывая его из ладони в ладонь и производя тем самым плещущие звуки, он вне всякой последовательности сообщил мне шесть истин.
Во-первых, 80 % телесного тепла уходит через голову; во-вторых, выслушивать грустные истории лучше всего когда тебе грустить не о чем; в-третьих, мир и алчность несовместимы; в-четвертых, любой закон есть недоверие к человеку; в-пятых, убегая от страха, мы лишь увеличиваем его; и в шестых, мужчина боится женской красоты и поэтому старается всегда унизить красивую женщину, но женщины столь же развратны, сколь мужчины.
Я перебил его и справился о мнении супруги, но супруга, как выяснилось, по-английски не понимала, а супруг не пожелал переводить ей вопроса, в результате чего она, не подозревая, что я жду ответа, продолжала играть с апельсином. В основном же я занимался тем, что пил водку, смотрел в потолок, похожий на опрокинутый торт, и пьянел на неотвязном помышлении о Субботе. И все это время пока мы сидели в баре, там играла арабская музыка, нацеженная нежностью и печалью, но неожиданно для меня оказавшаяся военной.
На улицу мы вышли последними, перед самым рассветом. В парке напротив кричала птица, ошалевшая от ночного безделья, а кусты неизвестного растения были усеяны то ли светляками, то ли шариками красной эмали. Зато в небе, по-прежнему лишенном прозрачности, не было ни единой звезды, — словно кто-то скрыл их от глаз черной арабской шалью или повыдергивал щипчиками для бровей.
95. Самоубийством ничего кроме самоубийства добиться невозможно
Простившись с супругами, я объявил им, что мне идти в противоположном направлении, и свернул на ближайшую улицу. И тут я Субботу и увидел.
Издали показалось, что она на меня и смотрела, но вблизи взгляд у нее оказался сквозной, — очищенный, как вода в перекрытом бассейне. Такою же немой и обращенной в никуда была и поза, — единственная композиция рук, туловища и ног, которая лишает тело выражения. Трусы — тоже прозрачные, фирмы «Кукай», и между ног у нее не было щели. Вернув взгляд к ее глазам, я вдруг осмыслил смущение, возникшее у меня, когда я впервые заглянул ей, живой, в лицо. Глаза эти, прозрачные и тогда, напомнили мне, как выяснилось сейчас, влагу израильского озера Кинерет. Такое же ощущение: спокойствие, схоронившее в себе непугающую тайну и тихую музыку…
У вод Кинерет я просидел как-то всю ночь в неизбывном удивлении, что эта неподвижная влага хранит в себе тайну о многих людях, которые не хотели жить и утонули, и о том единственном из них, о назаретском раввине, который прошелся по воде легко, как — по жизни глупцы, но, в конце концов, избрал смерть, попросив на кресте глоток влаги. И еще у вод Кинерет я вспоминал песню про эти воды…
Только сейчас, разглядывая стеклянные глаза за стеклянной витриной «Кукай», я осмыслил свое недавнее смущение. Тогда было озеро Кинерет, а теперь и здесь — не чистота, а очищенность. Потом присмотрелся к выражению ее лица, открывшего мне усмешку, которая знаменует неспособность любить, символ свободы от страстей, то есть символ глупости, грустной человеческой черты.
Прервал меня все тот же нелондонский дождь. Одно из двух, заключил я, отрываясь от витрины: либо все на свете состоит из ничего, то есть либо истинная природа каждой вещи есть ее отсутствие, ее сделанность из ничто, либо же улетевший в Австралию скульптор, наоборот, слишком бездарен. В любом случае, думал я, вышагивая по пустынной улице впритык к зданиям, смотреть на ее копии я больше не буду, ибо даже этот первый взгляд на стеклянную Субботу столкнул меня в воды забывания ее. Почувствовал, что эта застывшая, как стекло, вода забывания может заполнить все промежутки в моей памяти, — и тогда Суббота исчезнет навсегда, как исчезает бесцветное стекло — если долго сквозь него смотреть…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «История моего самоубийства»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «История моего самоубийства» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «История моего самоубийства» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.