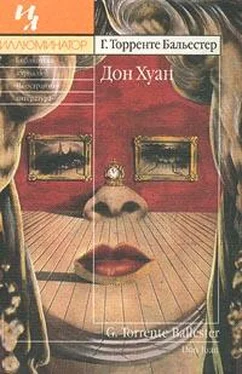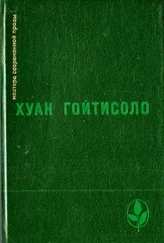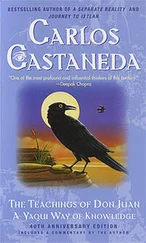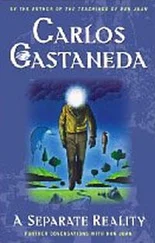А Ульоа сыграл роль орудия судьбы, не более того, но не в час моей предполагаемой смерти, а в самом начале истории, сразу после похорон отца. Случилась же скорбная церемония сразу по моем прибытии в Севилью, мартовским утром, в самый разгар Великого поста, очень жарким мартовским утром. Катафалк был сооружен преогромнейший, так что помпезность его и размеры фальшивой нотой звучали в белой и очень маленькой, как-то по-женски изящной церкви, которую отец мой поддерживал своими щедротами. Собралась там вся городская знать, но притекло и множество бродяг да мошенников, коих отец подаянием тоже никогда не обходил. Церемония длилась два часа: сдается мне, ни одного усопшего не отправляли на небеса с такими долгими славословиями. По окончании ее я принялся раздавать милостыню золотом; и всякий раз, как рука моя доставала из кошеля монеты и они звякали друг о друга, друзья покойного, окружавшие меня, вздрагивали и жадные взоры провожали горсть с дублонами: я же творил милостыню лишь во исполнение воли отца, а отнюдь не уповая на то, что усилит она действие заупокойных молитв. Отец слыл человеком безмерно добродетельным, так что Господь, несомненно, уже принял его к себе. «Никогда в жизни не видал столь напрасных подаяний», — пробормотал рядом со мной некий надутый сеньор. Я улыбнулся, словно соглашаясь с ним. В ответ он пообещал вскорости навестить меня и назвался Командором.
Я воротился домой с верным Лепорелло и заперся в своих покоях. Нет, я не слишком горевал, просто того требовал обычай: надобно было уединиться, отдавая тем самым дань уважения памяти отца. Я объявил слугам, что принимать никого не стану. Делать мне было совершенно нечего, и я попробовал вообразить, какой прием клан Тенорио окажет на своих отдельных небесах душе моего новопреставленного батюшки. Я не оговорился, именно так — на небесах, особо для них сотворенных. За главную добродетель там почитается несокрушимая верность своему роду и дворянской чести, а посему попасть туда могли и осужденные Господом, ведь мы, Тенорио, не признавали над собой даже Его закона. Вот я и представил себе, как отец мой возносится на это небо, вернее, душа его, столь же горделивая и надменная, как и сам он при жизни, и все Тенорио встречают его стоя, в торжественном молчании. Самый старший за руку подводит отца к неудобнейшему креслу, где ему предстоит сидеть вечно — правда, рядом с моей матушкой.
После полудня жара сделалась нестерпимой. Я велел открыть окна залы, выходившие на тенистую улочку, и сел у оконной решетки, держа в руках книгу, читать которую у меня не было никакой охоты. Тут вошел Лепорелло и объявил, что Командор де Ульоа почтил меня своим визитом и настаивает на встрече, ссылаясь на свою дружбу с покойным.
Дон Гонсало де Ульоа, когда я увидал его вблизи и с вниманием выслушал, показался мне актером, и пожалуй, даже великим актером, но из тех, кто полагает, будто жизнь в том и состоит, чтобы личность заменить личиной, а потом приноровиться к маске и жить по ее указу. Одет он был в черное, и в костюме его, уже по-весеннему легком, самой броской деталью был крест Калатравы. Он сразу кидался в глаза, и всякому становилось понятно — крест мог заменить собой Командора, по крайней мере так хотелось бы дону Гонсало. На мой же взгляд, не менее важным дополнением к кресту служило и лицо — оплывшее, багровое, толстогубое, с огромным носом и свирепым взором. Именно такое лицо полагалось иметь Командору, и дон Гонсало терпеливо лепил его, доводил до совершенства, чтобы оно соответствовало высокой должности. Так, во всяком случае, мне подумалось. Лицо огромной куклы, напыщенной и важной, годной на то, чтобы держать бразды правления, вышагивать во главе разного рода процессий и председательствовать на заседаниях трибунала по проверке чистоты крови. Туловище у него тоже было огромным, с огромной же головой. Руки, которые он протянул ко мне, привели меня в ужас, а от объятия его у меня перехватило дыхание.
— Любезный сын мой, Дон Хуан!
Голос его дрогнул, и он зарыдал, сокрушаясь по поводу кончины дона Педро. Нет, он, конечно же, не дозволял себе усомниться в том, что отец мой заслужил вечное спасение. Нет, слезы его были о другом: о свалившемся на него сиротстве…
— Поверь, сын мой, другом, истинным другом умел быть твой отец. Да каким верным! Случались тяжкие времена, когда лишь благодаря тайной щедрости его мог я вести достойный моего положения образ жизни.
Он говорил, расхаживая по зале, но внезапно смолк, уставившись на одну из картин.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу