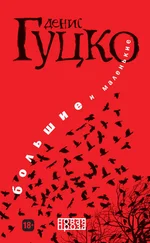После статьи Шаргунова «новый реализм» с подачи Валерии Пустовой вдруг перебирается из жанра писательских манифестов в жанр критических обзоров. Тут-то и начинается самое интересное. Брошенный на митинге клич пустил корни в основательном академическом тексте. Результат любопытный: манифест превратился в проповедь.
В статье «Новое „я“ современной прозы: об очищении писательской личности» «новореализм» противопоставлен уже не только постмодернизму, как у зачинателя Шаргунова, но и всей «уходящей литературной эпохе». Оно бы и ничего, и, быть может, достойно серьезного спора. Если бы не вы-страивалось все вокруг одного рискованного тезиса. Громя образчики уходящей эпохи, Пустовая утверждает: «…все эти произведения ставят вопрос о духовной состоятельности современного писателя ‹…› а также выводят нас на проблему очищения, освобождения и укрепления личности современного литератора. Отнесемся к этому со всей серьезностью: ведь „я“ литератора — источник духа произведения, и вся бледность и блудность, низость и узость словесного искусства исходят из непроявленных, искаженных, неразвитых, подавленных писательских „я“».
Разве? Увы, далеко не всегда личность писателя — источник духа произведения. (Когда б вы знали, из какого сора!) Далеко не всегда яркая личность — яркий автор. И, слава богу, наоборот.
Я, признаться, и сам, знакомясь с автором какого-нибудь замечательного произведения, который почему-то оказывается вполне средним блеклым человечком, до сих пор испытываю приступы синдрома Сальери: «За что ему, Господи?!»
Примеров тому, что автор не равен своим произведениям, — огромное количество. В том числе и в прошлом русской литературы. Но, не называя современников, не буду обижать и мертвых.
Такого рода посылы, предлагающие нам дефицит хороших текстов объяснить дефицитом ярких личностей в писатель-ской среде, опасны. Ибо недопустимо упрощают проблему, низводят анализ литературного процесса до фрейдистской софистики: вам снится банан — значит, у вас подавленная гомосексуальность.
Но что касается статей о «новореализме», такого рода упрощения, облаченные в профессорскую мантию, давно превратились в стиль.
Рудалев: «Разве кто-нибудь рискнет сейчас серьезно рассуждать о добре, чистоте, красоте, осуждать разврат, который становится нормой, отправной точкой всей системы мер и весов? Нет, нет! Разговоры о долге, чести, совести, подчинении общественным нормам высмеиваются…»
Ну почему так однозначно? Мне, к слову, чрезвычайно скучны произведения, сводящиеся к рассуждениям о добре и чистоте. А разговоры о долге и чести? Хотите поговорить об этом? Вы верите в то, что сегодня можно добиться отзыва в душе читателя, схватив его за совесть? Ему столько раз бессовестно врали — и не только власти, — столько раз клали лицом в дерьмо, что он (читатель) давно не верит тем, кто говорит с ним о совести. Это же надо чувствовать, это уже не реализм — живая реальность. И вовсе не обязательно литература должна быть пуританкой, чтобы нести нравственность и чистоту.
Зачастую как раз там, где автор начинает учить меня добру, для меня и заканчивается художественное произведение. Многие ли назовут «Крейцерову сонату» как самое любимое произведение Льва Толстого? Когда же литературный критик качество прозы призывает измерять ее моральной наполненностью, это и вовсе сбивает меня с толку. С таким подходом — чем более «морален» текст, тем он более художественно ценен? Не стоит путать жизнь и литературу: жизнь должна быть правильной, литература может быть любой. Сделать жизнь правильной — справедливой, нравственной, доброй — задача, которую мы решаем с той самой поры, как нас изгнали из Эдема. Но глупо представлять литературу как путеводитель «Обратно в Эдем». Литературу уже много раз и во многих местах загоняли в рамки морали. В последний раз это, кажется, называлось соцреализм. В том-то и фокус, что мораль — величина переменная. Иногда — более переменная, чем хотелось бы какой-то конкретной личности, или поколению, или классу. Именно тут и возникает конфликт, точка кристаллизации литературного произведения. (Давно ли мы ругались словом «спекулянт»?
А сегодня в сотый раз смотрим «Красотку», в которой Ричард Гир покупает и перепродает компании.)
Произведение, отрицающее мораль в ее сегодняшней версии, может вызывать во мне протест, но это может быть высокохудожественное произведение. Я никогда не буду мерить его линейкой морали, хотя, возможно, спрячу от своего ребенка. Но слышать от литературных критиков: «Литература должна быть высоконравственной» — я не хочу. Я даже от церкви не хочу этого слышать. Просто потому, что искусство не может играть по правилам, не им установленным. Это будет совсем другая игра.
Читать дальше