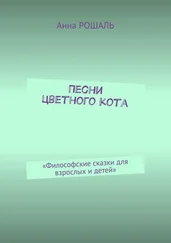После пяти начинается тихий семейный вечер, и Мэтью с Мирандой отправляются на кухню — помогать бабушке с ужином. Обыкновенно на ужин вареная ветчина, вареная картошка и вареные бобы в белом соусе. Мэтью все это на дух не переносит, а Миранда панически боится бобов. (Она думает, что это жуки, которым поотрезали лапки.)
Около шести вся семья садится на диван. Именно в тот момент пытка и начинается. Дедушка Мэтью достает из серванта альбом с фотографиями. Альбом единственный. В их семье никогда не практиковали фотокульт. В центре кремовой обложки из искусственной кожи золотыми затейливыми буквами вытиснено: «Воспоминания». Альбом начинается с двух священных портретов — прабабки и прадеда Мэтью и Миранды с материнской стороны. Вылитые викторианцы. Мэтью убежден, что не имеет с ними ничего общего. Вообще-то он никогда не верил, что это фотография его прабабушки. Ведь мать бабушки должна быть в точности как бабушка и так далее — во глубь веков. Всегда одно и то же, никаких отличий. Далее шли фотографии бабушки Мэтью в детской коляске и дедушки на велосипеде. Остальные фото бабушки и дедушки сделаны на морском причале. По три снимка на каждый год: по одному на каждый летний банковский выходной. Некоторые фотки с дурацкими волнистыми краями. Затем шли поблекшие детские снимки матери Мэтью и Миранды. Черно-белые фотографии размером с четверть современных и с глупой белой каемкой. Мэтью наблюдал, как мать постепенно перестает быть похожей на Миранду. Школа. Команда по хоккею на траве. В парке. Потом появился отец Мэтью — рядом со спортивным автомобилем. Почти следом шли свадебные снимки. Мэтью терпеть их не мог, особенно тот, где мать, скривившись, пилит каменнyю глазурь на свадебном торте. И вдруг, ни с того ни с сего — фотография, которую Мэтью ужасно ценил, единственная фотография: отец в военной форме во время службы в армии. Бабушка с дедушкой никогда на ней не задерживались, думая, что Мэтью с Мирандой не терпится посмотреть на свои младенческие снимки. Разумеется, Мэтью предпочел бы увидеть их в последнюю очередь, если вообще предпочел бы. После нескольких страниц с изображением младенцев, ходунков и дней рождений лежали маленькие квадратные газетные вырезки. Бабушка с дедушкой переворачивали эти страницы быстро и без комментариев. Далее оставались лишь школьные фотографии Мэтью и Миранды и совершенно кошмарный снимок «всей семьи» (без настоящих родителей), сделанный в студии местным фотографом. Миранду он заставил изогнуться, словно она светская дама. Где-то в этом месте Мэтью обычно говорил:
— Я проголодался.
Альбом аккуратно возвращался в шкаф. Все шествовали в столовую. Или в «переднюю гостиную», как иногда ее называл дедушка Мэтью. Бабушка всегда смеялась и говорила на это:
— Как изменились времена.
Вечер продолжался с еще большим количеством невыносимых ритуалов. За появлением на столе моркови неизменно следовало высказывание, что морковка помогает видеть в темноте. Их вечно отчитывали за то, что они загребают горошек вилкой. Самым тяжким грехом считалось держать нож как авторучку, впрочем, нет, согбенная спина и локти на столе были преступлением посерьезнее.
Надо ли удивляться, что после часа подобных мук Мэтью отчаянно хотелось вырваться на волю, провести на улице остаток светового дня, насладиться последышами дневного тепла и поговорить с нами.
Но ритуал тихого семейного вечера не позволял таких вольностей.
Во-первых, требовалось вымыть посуду. Затем вытереть ее и поставить на место. Остатки еды следовало снести вниз и выкинуть на компостную кучу. Домашние дела множились: убрать спальню, начистить обувь, подержать клубок шерсти, сложить мозаику.
— Разве не чудесно провести время вместе? — спрашивала бабушка.
v
Бездыханного Мэтью обеспокоила новая мысль: «Я хочу что-нибудь сказать, прежде чем умру. Я хочу сказать предсмертное слово Команде».
Что сказать, Мэтью вообще-то не знал. Зато знал, что его слова станут памятным и поворотным событием для трех оставшихся членов Команды.
Мы внимательно вслушивались в его беззвучное шевеление губами. И у каждого имелось свое толкование этой беззвучности. Эндрю решил, что Мэтью шепчет «конец», Пол — «отец», а Питер — «свинец».
Из транса нас вывели громкие приветственные крики на дороге. Внезапно мы ясно поняли, что делать.
— Стойте здесь! — распорядился Эндрю.
И почти в то же мгновение Пол с Питером объявили:
Читать дальше

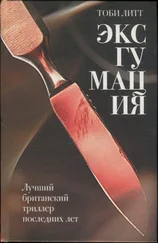
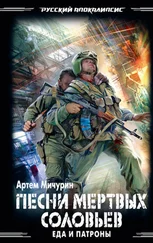



![Вячеслав Прах - Песня мертвых птиц [litres]](/books/417903/vyacheslav-prah-pesnya-mertvyh-ptic-litres-thumb.webp)

![Буало-Нарсежак - Из царства мертвых. Полное собрание сочинений. Том 1 [Призрачная охота, Та, которой не стало, Лица во тьме, Из царства мертвых]](/books/429663/bualo-thumb.webp)