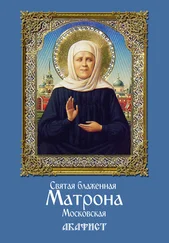Прошло несколько недель. Дни тянулись, как годы. Это время показалось ей самым долгим в ее жизни. Не только часы и минуты, но даже мгновения растягивались до бесконечности. Особенно в те дни, когда Доме и девочки оставались в городе, и она лишена была возможности их видеть. Но так же мучительно долго тянулось время, когда они приезжали, — потому что она не могла открыто радоваться им. С внучками было проще: она находила возможность как бы невзначай приласкать их, но сердце-то в первую очередь тянулось к сыну. О, как ей хотелось обнять его, прижать к груди, ощутить его тепло. Она понимала, что, потеряв ребенком, не доласкала его, и упущенного наверстать нельзя, но и терпеть, бороться с собой уже не могла, и чувствовала порой — еще чуть-чуть, и она сорвется, прильнет к нему и обо всем расскажет.
Расскажет, приласкает, и все вернется, будто и не было долгой разлуки, будто ее мальчик набегался где-то, наигрался и, устав, прибежал домой, к матери.
Обнимет его, и сын ее будет навсегда опозорен…
Эти мысли не давали ей покоя, и она жила в неясном пространстве между радостью и горем.
К тому же ее преследовал неотступный, как око Божье, внимательный взгляд жены Доме. Она уже не скрывала своих догадок и вела себя, как сообщница, которую пытаются обмануть, она не спускала глаз с Матроны, задавала неожиданные вопросы, и Матрона устала, стала шарахаться от одного ее вида. Она боялась ее, как преступник свидетеля, и когда наступали выходные, молила Бога, чтобы Доме привез только девочек, а жену оставил в городе. Но они, словно нанизанные на одну нитку, всегда приезжали вместе.
И тогда к ней возвращалась мысль о смерти. Эта мысль, как бальзам, успокаивала ее, умиротворяла, ласкала душу; смерть представлялась ей диким существом, похожим на ребенка, выросшего среди волков в лесной чащобе; смерть была, как одичавший ребенок, которого надо приласкать, приручить, чтобы он стал послушным и снова привык к людям. Мысль о смерти освобождала ее от сомнений и страхов, но сама смерть была далеко, и Матроне не хотелось торопиться: она еще не нагляделась на сына, разлука с которым длилась так долго, не нагляделась и не готова была расстаться — материнское сердце упрямилось, не давая своего согласия. И тогда она начинала думать о другом. Можно ведь спрятаться, в конце концов, исчезнуть. Но где оно, такое убежище, откуда она не сбежит, не выпрыгнет в окно, почуяв вблизи своего сына? Она думала о спасении, но чувствовала другое — нужно поторопиться, поскорей встретиться со своей избавительницей. Надо было спешить, а материнское сердце требовало своего: поживи еще, порадуйся сыну — хоть неделю, хоть день еще, хоть час.
Она и сама подождала бы с тем единственным делом, которое осталось ей совершить в этой жизни, но обстановка, складывающаяся в доме, менялась с каждой минутой, и уже невозможно было определить, сколько времени она сможет выдавать еще себя за другого человека. Доме пока ни о чем не догадывался, но его жена и Уако явно поговорили уже, поделились своими догадками и теперь следили, почти не таясь, за каждым ее словом, взглядом, движением. Надо было торопиться, но она все тянула, не в силах расстаться с сыном…
А время шло с тяжкой медлительностью — день за днем, неделя за неделей…
Однажды вечером — еще не совсем стемнело — к ним пришла Венера, поникшая, заплаканная.
Матрона и Уако встали ей навстречу.
— Что случилось? — спросила Матрона. Сердце ее зачастило в тревоге.
— Заур погиб, — всхлипнула Венера.
— Ой, черная кровь пролилась на голову его бедной матери! — заплакала Матрона.
Уако растерянно смотрел на них.
— Он наш односельчанин, — утирая слезы, объяснила Венера. — Поехал на заработки в Россию и утонул в реке.
Матрона, не осмеливаясь причитать в присутствии Уако, только всхлипывала, сдерживая слезы.
— Когда хоронят? — спросила она.
— Послезавтра, в воскресенье, — ответила Венера. — Ты поедешь?
Матрона вопросительно глянула на Уако, но тот молчал, глядя себе под ноги.
— Мы с Солтаном собираемся завтра, — сказала Венера. — Поехали бы и послезавтра, но боимся опоздать. Две пересадки из автобуса в автобус, кто знает, как доберемся… Поедешь с нами?
— Конечно, поеду, — ответила Матрона. — Как я могу остаться?
На следующий день, когда она уже собралась, была готова в дорогу, приехал Доме с семьей. Узнав о случившемся, он сказал:
— Поедем завтра, рано утром, — и, помолчав, глянув на Матрону, добавил: — Я должен быть с тобой, мы же не чужие, в конце концов.
Читать дальше