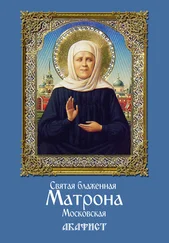— Отметина, говоришь?
— Да, да. Какой-нибудь знак. Родимое пятно, или шрам, сама понимаешь.
Жена Доме, не мигая, смотрела ей в глаза, словно предупреждая: не надейся обмануть меня, как бы ты не хитрила, я все прочитаю в твоих глазах. Матрона тоже не отводила взгляд, будто отвечая: читай, если умеешь, там все написано. Взгляд-то она держала, но и с волнением едва справлялась, боясь выдать себя и в то же время понимая, что лучшего случая узнать что-либо ей может и не представиться. Жена Доме, говоря о знаках и отметинах, конечно же намекала на родимое пятно над левой бровью своего мужа, пятно, похожее на гусиную лапку. Оно было на виду и само просилось на язык. Но шрам…
— Нет, не было никаких отметин, пасть бы мне жертвой за него. Чистенький был, как белый ягненок… Если бы что-то такое было, какойто знак, как ты говоришь, я бы по одному обошла всех людей, всех до edhmncn — в каждом селе, на каждой улице, я бы нашла его, будь хоть какая-то примета.
— Даже шрама нигде у него не было? — настаивала жена Доме. — Дети же бегают, играют — долго ли пораниться?
— Шрам, говоришь? Шрам у него был, взять бы мне его болезни, но за столько лет вряд ли от него остался какой-то след, что там еще можно увидеть? — она говорила, будто только сейчас вспомнив о шраме и опечалившись, а сама внимательно следила за женой Доме, за каждым ее движением.
— Какой шрам? — спросила та в нетерпении.
— Шрам от раны, — не торопясь, словно продолжая вспоминать, произнесла Матрона.
— Где? В каком месте?
— На ноге.
Жена Доме вздрогнула:
— На ноге?!
Тут уж Матроне настал черед схватиться за сердце. Теперь она знала, что у взрослого Доме есть шрам на ноге, не зря его жена так дернулась. Чтобы успокоить ее, Матрона, помедлив немного, сказала:
— На правой стопе, на самом подъеме. — Она помолчала, соображая, стараясь придумать что-то правдоподобное, и продолжила, горестно покачав головой: — Корова ему на ногу наступила. Рана вроде и небольшая была, а заживала плохо, наверное, грязь в нее попала. Он сильно хромал, бедный…
— Но рана все-таки зажила? — допытывалась жена Доме. — Он поправился?
— Кто знает? Пока был со мной, рана еще гноилась. Да и после вряд ли зажила сразу… Наверное, он так и остался хромым.
Разговор закончился, и они умолкли, задумались, не зная, как быть. Чтобы оправдать наступившее молчание, обе принялись за работу, однако вскоре — и тоже разом — остановились, глянули друг дружке в глаза и смутились, чувствуя каждая неправду другой, а уж свою — тем более. И в то же время обе понимали, что их отношения так или иначе в самом скором времени отразятся на семье, в которой свела их судьба, а значит, надо отбросить в сторону недомолвки и поговорить по душам. Однако думать об этом было намного легче, чем продолжить разговор, но уже без недомолвок, хитростей и словесных ловушек. Они тяготились не только затянувшимся молчанием, но и взаимной неприязнью, которая возникнув, казалось бы, из ничего, росла и ширилась в тишине невеликого пространства их общего дома. Каждой хотелось преодолеть себя, сделать первый шаг к сближению, но обе не решались, не зная, что именно надо сделать и как это будет воспринято. Кто знает, сколько бы они еще молчали, если бы на веранде не послышались чьи-то шаги — тут они облегченно вздохнули.
Их спасительницей оказалась Белла. Она принесла войлочную подстилку, бросила ее в угол и устало, будто через силу, произнесла:
— Мама…
— Что с тобой, дочка?
— Я хочу пойти на речку, к папе.
— Иди, конечно, кто тебе запрещает, — улыбнулась жена Доме. — Или ты хочешь, чтобы я отнесла тебя, как ребенка, на руках?
— Я боюсь сельских собак. И дедушка сказал… — Белла замялась.
— Что сказал дедушка?
— Чтобы я кого-нибудь послала к источнику, за минеральной водой.
Жена Доме рассмеялась, и девочка притихла, нахмурившись.
— Пошли, конечно, кого-нибудь, — продолжала смеяться ее мать. — Сама видишь, тут полон дом людей, и все помоложе тебя. Кому хочешь, тому и приказывай…
Матрона прислушивалась к их разговору и, радуясь девочке, самому ее появлению, так вовремя разрядившему обстановку, думала о чистоте и наивности детской души, о том, как душа замутняется с возрастом, и человек, начиная творить свой быт, очень быстро теряет ощущение света и радости жизни.
Между тем курица была уже общипана и, положив ее в кастрюлю, поставив на огонь, Матрона сказала:
— Я схожу, принесу воды. Да и овец пора проведать. — Она улыбнулась жене Доме: — А ты оставайся, свари курицу… Пойдем, Белла.
Читать дальше