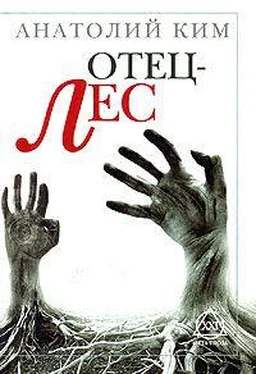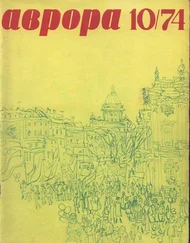Ральф же Шрайбер и двести пятьдесят его соузников лесного лагеря стали тенями для тех, что сами станут тенями по истечении определённого времени; и причина того, что лишь тени властвуют над добром и справедливостью на земле, крылась в том, что, будучи ещё телесными, грядущие тени и тени теней совершали какой-нибудь реальный поступок, после чего для них исчезал путь к дальнейшему совершенствованию. Механизм уничтожения души был прост — она подводилась к необходимости совершить какую-нибудь конкретную подлость, после которой человек вдруг ясно чувствовал, что ему незачем жить на свете. Если бы даже тот кусок сырой свиной кожи, размером с мужскую ладонь, Ральф Шрайбер мог отдать Мартину Кристельбрудеру, тот всё равно уже не вышел бы из состояния дистрофической апатии. И кожу Ральф не отдал Мартину, а сварил в котелке и съел сам, на глазах у сидящего рядом на нарах, неподвижно и странно глядящего на него соседа по нарам. Ральф прожевал и проглотил хорошо проварившуюся мягкую кожу вместе с торчащей из неё щетиной, затем выпил весь бульон до капельки — Кристельбрудер не сделал ни малейшего движения во время всей этой акции. Мартин Кристельбрудер молча сидел и смотрел, как делал он уже на протяжении двух недель — не выходил из барака, не становился в строй рабочих, собиравшихся выйти на лесоповал, оставался в лагере и, значит, не получал той порции горячей пищи, которую готовили в полевой кухне, один раз за день, из остатков продуктов, которые сержант Обрезов не успевал съесть сам или свезти в деревню.
Однажды Кристельбрудера таки погрузили на деревянные салазки и увезли двое добровольцев: закоченевший доходяга уже несколько дней лежал без всякого движения, лишь редко вздыхал сквозь оскаленные зубы, а в этот день, придя в темноте вечера с работы, зажгли керосиновый фонарь и увидели, что бедняга уже готов и дышать перестал. Кристельбрудера увезли, а Ральф Шрайбер, его сосед по нарам, проснулся утром от холода, стоявшего в бараке, и, обернувшись нечаянно, увидел сидящего на старом месте соседа. Ральф не посмел никому признаться в том, что ему мерещится призрак: уставясь неподвижными глазами из пещер черепных впадин, завешенных густыми свисающими бровями, Мартин внимательно и загадочно смотрел на суетившегося соседа. Вечером тень была на своём месте — и так продолжалось несколько дней, пока не пригнали новенького, повара из мытищинского лагеря военнопленных, — и место на нарах занял пожилой Шульман.
В последнюю минуту жизни, когда Ральф с топором в руке шёл через открытую вырубку к чащобе леса, он обводил внимательным взглядом строй тёмных елей, ожидая увидеть где-нибудь между ними затаившуюся сутулую фигуру, но Мартина Кристельбрудера он не увидел, а, как только пуля пробила ему затылок, увидел бегущую, надвигающуюся на него чёрную громадину какой-то звериной туши, мелькающую меж стволами сосен на просвете едва синеющего ночного неба.
Однажды утром сосна, которую спилил бензопилою Степан Тураев, пала верхушкой меж двух берёз и зависла, и дерево, когда-то родившееся взамен погибшей души немецкого военнопленного Ральфа Шрайбера, передало свою тоску Степановой душе, и в последней зашевелились, прорастая, какие-то неведомые ранее, страшно далёкие, неуправляемые чувства. Степан вырубил берёзовую вагу, стал подводить конец под комель зависшего дерева, чтобы шевельнуть его, — и здесь он почувствовал, что сильно кольнуло в правом плече и отдало в шею, он выпрямился и, опираясь на берёзовую жердь, стал пережидать, но не сразу прошла боль. За те минуты, что Степан праздно стоял, глядя куда-то в пространство перед собою, он пережил лагерное томление весною, когда все те, кому удалось уцелеть в зиму, начали отогреваться в тепле солнца, и многие из них, утеряв жёсткую и постоянную деятельность для сиюминутного выживания, расслабились и начали пристальнее вникать в своё несчастье. Это сразу повлекло за собою массовые болезни, и общий мор, приостановившийся было к концу зимы, после таяния снегов обрёл ещё большую силу.
Степан только сейчас почувствовал, — что всякое представление о достоинстве не то чтобы менялось, а вовсе исчезало, и сознание приходило к такому пониманию человеческого существования, что оно только в снах, неведомо кому принадлежащих, видится прекрасным, божественным, возвышенным, а на самом деле, безотносительно к этим снам, оно ничуть не значительнее и не прекраснее, чем жизнь у серых крыс. Для такого постижения не надо было сложной науки — достаточно с тоскою вялого умирания в крови, в костях, во всех жилах и связках тела проползти по вытоптанному до каменистой гладкости двору концлагеря, пытаясь найти где-нибудь в узеньких щёлках земли шнурочек ещё не выковыренного корешка. Крупные крысы с красивой, гладкой шерстью, весьма бодрые и самоуверенные, часто встречались на пути ползущего человека, и действительно ему становилось совершенно ясно, что у крыс жизнь намного вернее, чем у людей, ибо для последних особенную муку существования перед очевидным концом составляли тысячи ядовитых укусов поруганной совести, страдания от сознания собственной низости, боль за тех, кого приходилось любить, обида за то, что добрый Бог со всем Своим добром и милосердием оказался бессильным перед мордастым сержантом конвоя.
Читать дальше