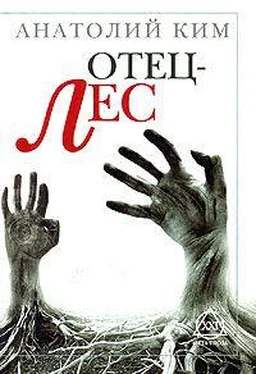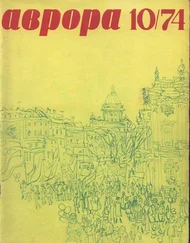Степан Тураев не заметил того, что в мире его духовности появилась фигура, впервые созерцаемая им посредством внутреннего видения: незнакомый Степану сержант Обрезов на секунду предстал перед ним, словно один из многочисленных мучителей в его прошлом, которых душа запомнила как одно общее лицо исчадий ада, — боль в плече медленно отпустила, и Степан Тураев вновь взялся за рычаг из берёзовой жердины. Он сдвинул комель спиленной сосны — пружинисто выгнутая вершина её сорвалась из зацепы и, сламывая свои и чужие ветви, рухнула вниз. Сосна окончательно погибла, пала на землю, и Степанова душа, воспринявшая заботы, страхи и тяжкий крест чужих судеб, переданные ему павшим деревом, ощутила некий тёмный гнёт, и человек принялся за дальнейшую обработку срубленной лесины в какой-то неизъяснимой смуте чувств. Он решил сегодня заготовить лесу для строительства нового свиного хлева (прежний, расположенный в древнем дубовом сарае, уже развалился, как старая поленница) — но работа не шла, и чего-то внезапно разболелось правое плечо, и думы стали одолевать, трезвые и ясные: скоро же умирать, кому нужно подворье в лесу? Степан Николаевич оставил дерево с необрубленными сучками, заткнул топор за пояс, взял бензопилу «Дружба» на горб и отправился домой.
По дороге он имел долгую беседу с красномордым сержантом конвойной службы Обрезовым — тот вызвал на вахту Ральфа Шрайбера и учинил ему один из обычных своих допросов, скука и тупость которых была настолько вопиющей, что сам допросчик сидел на табурете и время от времени свирепо зевал, раздирая до потолка свою желтозубую прокуренную пасть. Степан Тураев тоже знал, побывав в нескольких концлагерях у немцев, эту привычку малых по чину стражников испытывать свою беспредельную власть на узниках посредством строгого начальнического иска и проникновения испытующим взором до самого дна нечестивой души, где, таясь во тьме, зреют преступные замыслы — не раз мучительски мучили Степана эти мелкие душонки своими самолюбивыми, пакостными допрашиваниями, он старался поменьше говорить или же тупо отмалчиваться, зная, что в худшем случае будет избит, как скотина, но зато останется жив и, главное, не станет предметом мстительного внимания маленького человека, заполучившего огромную власть над чужою жизнью.
Что-то от холодной подземной тоски таких окаянных бесед повеяло на склоненную седую голову Степана Николаевича, от того времени, когда и он проходил славную школу своего века: Обрезов допытывался у громадного, костлявого, со страшно втянутыми щеками Ральфа Шрайбера, не хочет ли он снова пойти в деревню ремонтировать печки у баб. Этим вопросом сержант подводил к коварному моменту, чтобы спросить: а куда он, немчура проклятая, девал можжевеловую палку с загнутой ручкой в виде голой бабы, стоящей раком, и на что он променял эту палку? Допрос этот происходил накануне того дня, когда мгновенная суицидная решимость тураевского пращура передалась полуживому от тягот мировой войны, от вражеского плена, русского холода и общечеловеческого тоскливого голода немецкому военнопленному. Чудом избежавший гибели под татарским булатом человек, мощный зверолов, ходивший с рогатиною на вепря и медведя, вдруг через час после своего спасения кинулся головою в трясину, а Ральф Шрайбер, ещё на днях жадно съевший утаенную от сержанта свиную кожу вместе с щетинкой, направился к запретной зоне и неторопливо, ровно зашагал через просеку, не ворочая головою, в правой повисшей вдоль тела руке держа топор, который он получил при входе в рабочую зону и должен был сдавать при выходе из неё. Единый тёмный Зверь Жизни, которого узрел Ральф Шрайбер в то мгновенье, когда винтовочная пуля разбила ему голову, пройдя от затылка к правой надбровной дуге, — Зверь промчался мимо него, словно тёмная гора, и скрылся на дальнем краю просеки.
Степан пришёл домой и, сняв телогрейку, сбросив с ног сапоги, полез на печь, позабыв, что она нетоплена, и ощущение холодных кирпичей под руками как бы подтвердило всё его несчастие, которое заключалось в том, что, несмотря на троих детей и долгие годы уединения в лесу, он всё время ощущал где-то очень близко вот такую же, как эти кирпичи, мёртвую и холодную подоплёку жизни. Невыразимым таилось в нём его знание, добытое ценою пережитых ужасов и чудовищных болей, оно без всяких обиняков подводило Степана Тураева в пору его старости к принятию мысли, что всякая погибель жизни — на Земле и, очевидно, и вне Земли — есть дело законное, облегчительное и совершенно не содержащее в себе что-то страшное, какою представлялась любая погибель ему в детстве, отрочестве и юности. Вернуться… вот что померещилось ему сегодня вслед за той минутой, когда он грызущей цепью бензопилы прервал жизнь нестарой стройной сосны и она, покачнувшись, пошла, пошла вершиною к земле… Вернуться к чему-то, что гораздо лучше, истиннее жизни — вот что таит в себе этот настойчивый зов!
Читать дальше