В то время дела у меня шли неплохо. Обеспеченная жизнь, моложавая внешность, профессиональная востребованность и известность не позволяли этим темным страхам полностью завладеть мной, вытесняя их на обочину сознания. Потом стало хуже. Книги продавались не так хорошо, как раньше, пост в издательстве пришлось оставить, я растолстела и потеряла форму. Меня преследовал страх старости в нищете и безвестности. Приходилось признать, что, пока я следовала схеме, разработанной несколько десятков лет назад, мир вокруг стал другим, как и я сама.
В 2005 году я ездила в Неаполь и встречалась с Лилой. Это был трудный день. Она сильно изменилась. Старалась казаться приветливой, с нарочитым радушием здоровалась с каждым встречным и слишком много говорила. На каждом шагу мы натыкались на африканцев или азиатов, кругом витали запахи незнакомой кухни. Лилу это радовало. «Я не ездила по миру, как ты, но, как видишь, мир приехал ко мне сам», – шутила она. В Турине творилось то же самое, и в принципе вторжение в повседневную жизнь экзотики мне даже нравилось. Но только попав в родной квартал, я осознала, насколько изменился за последние годы антропологический пейзаж. Под влиянием чужих языков привычный диалект приобретал новое звучание и, вступая с ними во взаимодействие, обогащался новыми смыслами. Серый камень зданий украсили диковинные вывески; старые владельцы лавок, торговавшие честно и из-под полы, перемешались с пришлыми; зараза насилия все шире затрагивала и новичков.
Это был тот самый день, когда в сквере нашли тело Джильолы. Мы еще не знали, что она умерла от инфаркта, и я подумала, что ее убили. Ее распластанное на земле тело казалось огромным. Как она, всю жизнь считавшаяся красавицей и отхватившая себе красавца Микеле Солару, должно быть, страдала от случившейся с ней перемены. «А я пока жива, – мелькнуло у меня, – а чувствую себя так, словно почти не отличаюсь от этого кошмарного безжизненного трупа, лежащего в заброшенном сквере». Так и было. Я с маниакальным упорством следила за собой, но уже не узнавала себя в зеркале; походка потеряла упругость; каждое движение выдавало груз прожитых десятилетий. Я, конечно, понимала, что я давно не юная девушка, но сейчас испугалась, что я ничем не лучше мертвой Джильолы.
Зато Лила, казалось, не обращала на старость внимания. Она быстро ходила, громко разговаривала, размахивала руками. О рукописи я ее больше не спрашивала: что бы она ни ответила, я бы только расстроилась. Я не видела, за что мне ухватиться, чтобы выбраться из депрессии. Проблема была не в Лиле и не в гениальном тексте, который она, возможно, написала; просто мне стало ясно, что все, созданное мною с шестидесятых годов по сей день, утратило силу и перестало вызывать прежний интерес. Я лишилась читателя. В тот ужасный день, соприкоснувшись со смертью, я поняла, что изменилась сама природа грызущей меня тоски. От меня ничего не останется. Мои книги рано увидели свет, и их скромного успеха хватило, чтобы несколько десятилетий поддерживать во мне иллюзию, будто я занимаюсь чем-то действительно важным. Но иллюзия рассеялась: продолжать верить, что мои книги чего-то стоят, было невозможно. Для Лилы тоже все было в прошлом: она вела одинокую и вряд ли веселую жизнь, сидела в крохотной родительской квартире и делилась своими мыслями и впечатлениями с компьютером. Но у нее оставался шанс, что ее имя – веревка, которой завязан ее мешок, – на склоне лет или даже после смерти прославится благодаря гениальному творению. В отличие от меня она не писала тысяч страниц, а создала всего одну книгу, которой не собиралась гордиться, как я гордилась своими. Но эту книгу люди будут читать и через столетия. У Лилы еще был шанс оставить свой след в истории, а я свой упустила. Моя судьба ничем не отличалась от судьбы Джильолы.
Какое-то время я ничего не делала. Работала мало, тем более что никаких заказов мне не поступало, даже от моего бывшего издательства. Мне ничего не хотелось, я только подолгу разговаривала по телефону с дочерями и сюсюкала – тоже по телефону – с внуками. У Эльзы родился сын Конрад; Деде родила Хамиду сестренку, которую назвали Эленой.
Голоса внуков, уже хорошо умеющих говорить, напоминали мне о Тине. В самые мрачные минуты на меня накатывала уверенность, что Лила пишет историю своей дочери, перемежая ее историей Неаполя; пишет с обезоруживающей наивностью далекого от книжной культуры человека, и эта наивность делает ее текст неотразимым. Потом я спохватывалась: все это лишь мои фантазии. В моей душе помимо воли рождались страх и зависть, ненависть и любовь. Но у Лилы не было таких амбиций, у нее вообще не было амбиций. Чтобы делать что-то, что впоследствии люди будут связывать с твоим именем, надо себя любить, часто говорила она, но она себя не любила. Она не любила ничего в себе. Вечерами, когда депрессия наваливалась на меня с удвоенной силой, я мысленно допускала, что Лила потеряла дочь не просто так: она не желала видеть в ней свое повторение, повторение насмешливой злости и бездарно растраченного блестящего ума. Ей было невыносимо мириться с собой, потому она и мечтала исчезнуть, не оставив следов. Она всю жизнь стирала следы своего существования. Почему она заперла себя в удушливой тесноте квартала, когда по всей планете рушились границы? Она ни разу не съездила в Рим, никогда не летала на самолете. Когда я думала, в какие тиски она себя загнала, мне становилось ее жаль, я вздыхала, садилась за компьютер и писала ей очередное письмо: «Приезжай ко мне хоть ненадолго». В такие минуты в меня вселялась уверенность, что никакой рукописи у нее нет и никогда не будет. Я ее переоцениваю, ничего от нее не останется. Это меня и успокаивало, и огорчало. Я любила Лилу. Я хотела, чтобы она продолжилась, но продолжилась в том виде, какой придам ей я. Я считала это своим долгом и верила, что именно она еще девчонкой поручила мне его исполнить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Элена Ферранте История о пропавшем ребенке [litres] обложка книги](/books/32091/elena-ferrante-istoriya-o-propavshem-rebenke-litres-cover.webp)


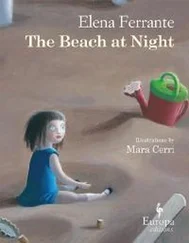

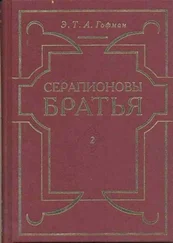


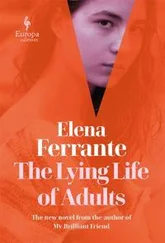
![Элена Ферранте - Дни одиночества [litres]](/books/404671/elena-ferrante-dni-odinochestva-litres-thumb.webp)


