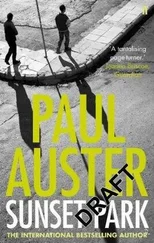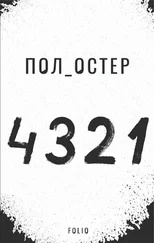Я похоронил его там же, у подножья горы. Подробности опустим. Как я рыл могилу, подтаскивал его тело к краю, чувствовал, как оно отрывается от меня и падает, когда я его туда столкнул. К тому времени я, возможно, уже дошел до точки. Я еле заставил себя засыпать яму. Забрасывать грязью его мертвое лицо — это было выше моих сил. Я проделал все с закрытыми глазами, только так смог швырять туда землю. Я не поставил над могилой креста и не прочел молитву. «Так тебя и растак, Господи, — сказал я про себя». — Еще я буду тебе молиться. Вместо этого воткнул в землю палку, прикрепил к ней лист бумаги и написал: «Эдвард Бирн, 1898–1916. Похоронен своим другом Джулианом Барбером». И тогда я завыл. Вот как, Фогг. Тебе первому рассказываю об этом. Только тогда я позволил себе завыть и предаться горю до умопомрачения.
Вот о чем успел рассказать Эффинг в тот день. Закончив последнюю фразу он перевел дух и, видимо, собирался продолжить, но тут в комнату вошла миссис Юм и объявила, что завтрак готов. Я думал, воспоминания о тех трагических событиях разбередят его и ему будет трудно успокоиться, но появление миссис Юм ничуть не рассердило Эффинга. «Отлично, — захлопал он в ладоши. — Пора завтракать. Я умираю с голоду». Меня удивило, как он сумел так быстро переключиться. Только что его голос дрожал от волнения. Я даже боялся, что старик на грани припадка, а теперь он мгновенно преобразился и излучал бодрость и добродушие. «Теперь у нас все пойдет как надо, молодой человек, — сказал он мне по дороге в столовую. — Это только начало, или предисловие, как это по-вашему называется. Погоди, вот я разговорюсь как следует. Ты еще, можно сказать, ничего и не слышал».
За столом он больше ни разу не упомянул о некрологе. Завтрак прошел как обычно, под привычный аккомпанемент хлюпанья и чавканья — этот день ничем не отличался от любого другого. Эффинг словно и забыл уже, что только что три часа подряд изливал мне в гостиной то, что никогда и никому не говорил. За столом мы беседовали, как обычно, мало, но к концу завтрака уже обсудили все приготовления к ежедневной прогулке. Недели на три-четыре распорядок у нас установился такой: по утрам мы работали над «составлением некролога», днем выходили на прогулку. Я уже заполнил воспоминаниями Эффинга более дюжины тетрадей, в день получалось от двадцати до тридцати страниц. Мне приходилось записывать с огромной скоростью, чтобы успеть за Эффингом, и порой мои каракули едва можно было разобрать. Как-то раз я спросил, не воспользоваться ли нам магнитофоном, но Эффинг отказался. Никакого электричества, сказал он, никакой техники.
— Терпеть не могу шипения этих дьявольских штук. Одно рычанье и фырканье, так и с ума сойти можно. Я хочу слышать только один звук — скрип твоей ручки по обычной бумаге.
Я объяснил ему, что на профессионального секретаря не учился.
— Я не знаю стенографии, и мне иногда нелегко разобрать то, что я сам написал.
— Тогда в свободное время печатай записанное, — посоветовал он. — Я дам тебе машинку Павла. Замечательная добрая старая штуковина. Я ему купил ее в тридцать девятом, когда мы вернулись в Америку. «Ундервуд». Таких теперь больше не делают. Она весит, пожалуй, тонны три с половиной.
В ту же ночь я откопал эту машинку в углу шкафа в своей комнате и устроил на приставном столике. И с тех пор по несколько часов каждый вечер я разбирал и печатал страницы, записанные в наши утренние часы воспоминаний. Работа была утомительная, но слова Эффинга довольно прочно держались у меня в голове, и я почти ничего не упускал из сказанного.
После смерти Бирна, продолжал Эффинг, он потерял всякую надежду на возвращение. Не проявляя особого рвения, попытался выбраться из каньона, но очень скоро заблудился в лабиринте утесов, узких ущелий и отвесных скал. На второй день его лошадь пала, но дров нигде не было, и мясо даже нельзя было съесть. Полынник не загорался, только дымился и шипел. Чтобы утолить голод, Эффинг срезал тонкие пластинки мяса от освежеванной туши и опаливал их спичками. Ел один раз в день, а когда спички кончились, бросил есть конину: не хотел питаться сырым мясом. Тогда же он решил, что жизнь кончена. Продолжая бродить между скалами вместе с уцелевшим ослом, он все больше мучился от мысли, что каждый шаг все дальше и дальше уводит его от возможного спасения. Его холсты и краски были в полном порядке, воды и пищи хватило бы еще дня на два. Но какое это теперь имело значение? Эффинг понимал, что даже если выживет, для него уже все кончено. Смерть Бирна предопределила его собственный конец: дороги назад, к людям, ему больше нет. Позора он не вынесет: последуют расспросы, подозрения в убийстве Бирна, потеря доброго имени и отказ от карьеры. Пусть уж лучше думают, что и он тоже умер, — так, во всяком случае, его честь не пострадает, и никто не узнает, каким необязательным глупцом он оказался. Тогда-то и исчез Джулиан Барбер: там, в пустыне, в окружении гор и ослепительного, режущего глаза света он просто вычеркнул себя из мира живых. В тот момент его это даже не потрясло. Было очевидно, что он скоро умрет, а если и не скоро — от него и так и так никому никакого толку. Никто не узнает о том, что с ним произошло.
Читать дальше