На приемах у Бородина танцевали примерно то же, что и на школьных вечерах, больше импортное, не «Слава борцам, что за правду вставали», и даже сам Бородин старался быть веселым и любезным, насколько это возможно для каменного идола. Танцевать он, правда, никогда не танцевал, но когда, видимо, по-настоящему освобождался от своей вечной озабоченности, просил поставить Лидию Русланову. Вот тут-то, под барыню, барыню, сударыню-барыню и разлетались папины смоляные кудри и полы навязанного мамой гэдээровского пиджака, загорались цыганские глаза, и проплыть перед ним с платочком слеталась половина женской половины, и даже в унылых толстухах проступало что-то крылатое, и Юля заранее знала, что мама сегодня будет запевать в спальне «Называют меня некрасивою, так зачем же он ходит за мной?», а папа на кухне станет грустить под гармошку: «За быстрой рекою гуляют ребята, веселье идет на лугу, и только одна ты, одна виновата, что с ними гулять не могу».
И Юле представлялась быстрая, но совершенно гладкая, как стекло, река, без всякого берега переходящая в бесконечную, даже без горизонта, равнину, удивительно ровно, будто стол зеленым сукном, покрытую нежной зеленой травкой, по которой с мечтательными улыбками на лице вечно гуляют ребята и девчата в чем-то светлом и легком, и сами они такие легкие, что и травка под ними не шевелится.
Юля уже готовилась в университет и знала, что черные глаза определяются доминантным геном. Почему же так получилось, что она унаследовала мамины глаза цвета «ни рыба ни мясо»? Раньше бы подумали, что это из-за того, что мама доминирует дома: с тех пор, как они переехали из полусказочного Изобильного, папа сделался немножко… ну, пришибленным это слишком сильно сказано, но, в общем, что-то в эту сторону. Зато по мелькомбинату он ходил хозяином, у него теперь и должность так называлась: мастер. И тамошние бабы в рабочих халатах водили вокруг него настоящие хороводы, и папа среди них делался совсем не такой, как дома: одну приобнимет, другую приподнимет, в его черных глазах зажигался огонек, а уж тетки прямо таяли. И тем не менее во время демонстраций мама стоит хоть и далеко слева от Бородина, но все-таки на трибуне, а папа марширует в общей колонне. Да, мама депутат горсовета, главврач, ее возят на работу на «Волге», ее портрет висит среди окружающего Ленина портретного хоровода «Лучшие люди нашего города», но вот захочет народ отвести душу в сказке, и про кого он ее сочинит? Когда лягушка сбрасывает с себя лягушачью кожу, она превращается не в депутата горсовета и не в главврача, а в такую КРАСАВИЦУ, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Да, еще и Премудрую, но с одной только премудростью будешь сидеть дома или висеть в немом портретном хоре, без красоты в сказку не попадешь. Однажды Юля, размечтавшись о чем-то, засиделась в темноте в родительской комнате, а мама, вернувшаяся с какого-то приема, не заметив ее, включила свет и,
подойдя к зеркалу на комоде, вдруг с ненавистью сказала своему отражению: «Уродина» — и — и ударила себя по лицу!
Иногда от всей этой безысходности Юлю охватывала такая тоска, что, казалось, вот прямо сейчас взяла бы и умерла, не будь гробы такими мерзкими. Но если бы даже ее положили на ложе из цветов и все вокруг рыдали и раскаивались, что были к ней так черствы, — что бы это изменило? Все равно бы никто не стал изумляться ее мраморной красоте: нет таких декораций, которые бы делали некрасивых красивыми. Такие декорации она находила разве что в книгах. Дома у них книгами, как и всем прочим, заведовала мама, и книг было довольно много, а главных авторов целые собрания сочинений: Горький, Фадеев, Георгий Марков… И неизвестно откуда залетевший Шоротчондро Чоттопаддхай «Шриканто».
Были там и книжки про любовь — любовь в них проверялась трудом: если влюбленные начинали от этого лучше работать, значит, это была правильная любовь, а если противопоставляли себя коллективу, то мещанская. И больше всех на мещанскую любовь были падки красавицы и красавцы, им доверять не следовало. В библиотеке же водились книги и ни к чему особенно не звавшие, и понемногу она начала любить скучные книги: приходится себя подгонять, как за уроками, но в отличие от уроков через некоторое время опять тянет. Так она одолела «Войну и мир»,
«Анну Каренину», «Идиота», «Братьев Карамазовых»…
Нет, Достоевский захватывал, после «Идиота» она вообще не могла усидеть дома, принялась лихорадочно, будто в клетеке, ходить взад-вперед по пятачку над Убаганом, но время от времени достоевские герои вдруг пускались в длиннейшие разговоры, в которых было не понять ни слова: «буди, буди!», «то Рим!»… При чем тут Рим, если разговор идет про Христа? Вот Шекспира она бы глотала не отрываясь, если бы там не разговаривали стихами, ведь так же не бывает.
Читать дальше





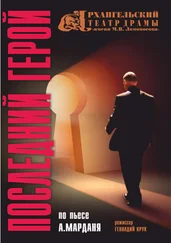


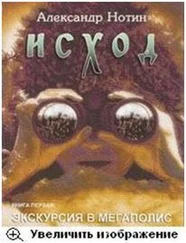

![Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)