Когда Юля читала про Акдалинск в ветхом энциклопедическом словаре, вызывающем уважение древними ятями и оттиснутыми осыпающимся золотом буквами на иссохшем коричневом корешке, — только тогда ее оставляло незаметно выросшее и утвердившееся чувство, что она живет в захолустье. За пределами истории, поняла она гораздо позднее.
В ее время Убаган уже был превращен в широко разлившийся ручей перерубившей его выше по течению Сарыкамышской ГЭС, — купаться было можно лишь благодаря скользкой деревянной плотине, под которой гнездились терпеливые налимы. Когда-то и она туда забиралась с мальчишками с мелькомбината, а потом стала вообще побаиваться ходить на Убаган, потому что приходилось пересекать опасную зону, где жили «колесники». Когда-то их предки вроде бы действитель-
но гнули колеса, однако ни на один приличный дом не заработали: в низине под обрывом — бывшим берегом Убагана — были в полном беспорядке рассыпаны слепленные черт знает из чего халупы с плоскими глиняными крышами, под которыми набивалась под завязку гопота всех возрастов.
Но там же как-то выросли и гордый Ченец, и печальный Витя Котов… Однако жизнь, которая ее окружала, — уж до того она была неказистая... Может, Юля и сама выглядела не лучше, но она хорошо запомнила, как из местной радиоточки как будто прямо для нее раздались слова московского режиссера, вскорости уволенного из акдалинского драмтеатра за формализм: события и люди воспринимаются совершенно по-разному в зависимости от того, в каких декорациях мы их видим. И когда тоска по красоте становилась невыносимой, она, словно сомнамбула, брела к стремившемуся, казалось, одолеть всю пойму бесконечному мосту через измельчавший Убаган.
Сначала над осыпающимся обрывом, бывшим берегом, продолжала лезть в голову всякая дребедень, но понемногу пойма — одна из обширнейших в мире! — брала свое. Она шла полого вверх на десятки верст, куда только хватал глаз. Но ковылей там уже не было — все покрывали разноцветные квадраты полей. Там было не сыскать и кибиток, про которые рассказывал ветхий энциклопедический словарь, — кочевников уже давно распределили по колхозам и совхозам. Но они чего-то там до сих пор шурудили на конезаводе за Убаганом. С обрыва конезавод маячил обычной унылой скотофермой, но за жеребцов акдалинской породы на международных аукционах отваливали сотни тысяч. Во время демонстраций невольно обомлеешь, когда на тебя, играя лоснящейся грудью, помчится, надменно выбрасывая точеные копыта, высоченный вороной красавец, как бы не замечающий позади себя двуколки, на которой умостился, поджав под себя ногу, зачуханный конюх-казах в потрепанном ватнике.
Ну что бы его не нарядить хоть в чапан?..
Во что бы только ей самой нарядиться? И как бы так научиться строить декорации хотя бы для себя самой?..
Она могла долго вбирать в себя распах грандиозного неба, даже если из-под обрыва потягивало дохлятиной, а в пустые бутылки и мумифицированные объедки она уже научилась не всматриваться, как и в сортирные дыры. Лишь бы только из-под обрыва кто-то не выбрался или сзади не подошел — взирать выше людей оказалось труднее всего.
Да и что есть выше?
Раз у них условлено, что если никто из мальчишек с тобой не гуляет, значит, ты неполноценная — никак их не заставить поверить, что ты сама этого не хочешь. Из-за этого она ходила на нудные школьные вечера, где, казалось ей, все только притворяются, что им весело, что кто-то в кого-то там влюблен: да разве можно радоваться, влюбляться, если все вокруг не то чтобы совсем безобразное, но и не очень-то и красивое. Да и сами мы не лучше. Одна только Спящая Красавица млеет в неге всеобщего интереса, посылая невидимые сигналы своими эмалевыми, лишенными глубины глазами. Но Юля шла на эту тягомотину, чтобы видели, что ее тоже приглашают, провожают, а однажды, чтобы отметиться, она даже позволила одному мальчику по фамилии Хомяк поцеловать себя в губы, — как будто собака лизнула, она даже подивилась, зачем люди вообще это делают. Он, бедняжка, еще чего-то плодово-ягодного выпил для храбрости, а закусил луком…
И что, и вся любовь? Но какая же может быть любовь без красоты?
Вот мама везде успела . И что? На приемах у Бородина папа был нарасхват, а за мамой ухаживали только подчиненные. С ней даже танцевали с почтительным видом и тоже только подчиненные. А вот в папиных объятиях самые суровые начальницы и тем более начальнические жены начинали прямо-таки светиться, — и у Юли таяли последние слабые сомнения: красоту люди действительно любят, а чины только почитают. С красотой соперничать не могло ничто. А уж папа был что красив, то красив. Поэтической хрупкой красотой, которую в Акдалинске вроде бы и оценить было некому, а пробивало-таки и этих теток с лакированными укладками, именовавшимися «вшивый домик», — какой он, к черту, был Серега, какой Степаныч — это был лорд Байрон из кинофильма «Леди Каролина Лэм». Когда в танце его смоляные кудри рассыпались или, еще лучше, разлетались, Юля сама была готова в него влюбиться.
Читать дальше





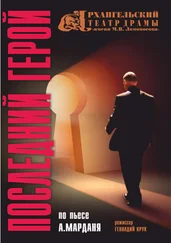


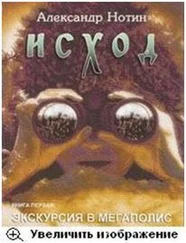

![Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)