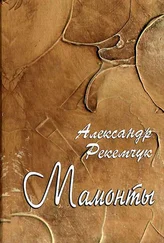— Хорошо, — сказал он. — Завтра Алла привезет в Москву рукопись. Читайте.
Теперь я мог прочесть «Тьму в конце туннеля» целиком, от начала до конца. Мог и поразмыслить о прочитанном.
Новая повесть Юрия Нагибина была написана от первого лица.
Это не было для него робким опытом в исповедальном жанре. Он уже давно опробовал его в рассказах о детстве, о ранней юности, составивших книгу «Чистые пруды». Проникнутые светлым первоощущением жизни, безоглядной доверчивостью, восторгом влюбленности, они несли в себе ту цельность юной души, которая в сороковые-роковые годы определила жертвенный порыв молодежи в войне против фашизма, в победе света над тьмой, — яупотребляю это пафосное выражение, сообразуясь с названием новой нагибинской повести.
Показательно, что его «Чистые пруды» прозвучали в лад той звонкой ноте юношеского максимализма, с которой пришло в литературу новое поколение писателей, зарегистрированное скучными критиками под порядковым номером как четвертое.
А где, в таком случае, пятое? Или его не было вовсе? Или сбились со счета? Или просто имелось в виду, что советская литература прекратила свое существование, что Бобик сдох?..
Мне же в стенах Литературного института довелось работать с тем новым поколением, к которому прилепится ярлык первого — опять первого! — но уже свободного поколения русской литературы.
Проблемы исповедальности горячо дебатировались в творческом семинаре.
Я объяснял, почему молодая проза катаевской «Юности» пятидесятых и шестидесятых годов так сильно изменила общий литературный пейзаж. Ее исповедальное «Я» — тонкое, ломкое, наивное — прозвучало как гром небесный в басовитом и нудном мычаньи традиционной многоплановой романистки.
Более того, это юношеское «Я» очень многими было воспринято, как неслыханная дерзость, как отчаянное безрассудство, более того — как посягательства на основы.
Еще бы! В ту пору, когда я учился в школе, нам с настойчивостью, достойной лучшего применения, вбивали в мозги речевку: «Я — последняя буква алфавита!» И буква последняя, и сам ты — последний... При этом, конечно, умалчивалось, что «Азъ» древнерусской азбуки обозначал то же самое «Я», но был при этом не последней, а первой буквой.
Тотальная война против «Я» в советские времена была, вне сомнения, осознанным средством подавления личности, в угоду якобы коллективистскому мышлению.
Постепенно это укоренялось и в литературной практике. Само использование первого лица зачастую давало повод для обвинений в индивидуализме, вольнодумстве, фрондерстве.
Отсюда же — враждебность к лирическому стиху, к лирике вообще.
Культивируемая на протяжении десятилетий осмотрительность в употреблении первого лица постепенно внедрялась в глубины подсознания.
И уже срабатывал фактор риска: напишу «Я» — меня потянут на Лубянку, напишу «Он» — на Лубянку потянут его...
Утрировка? Готов согласиться.
Но не потому ли в прозе советских времен это первое лицо, это «Я», если оно и появлялось, чаще всего было отдано героям детского либо подросткового возраста — в том числе юным героям нагибинских «Чистых прудов», — не потому ли, что эти герои были несовершеннолетними, и на них еще не распространялись карательные статьи Уголовного кодекса?..
Впрочем, и здесь простодушные авторы делали промашку: они совершенно упускали из виду особые указы, согласно которым члены семьи и, особенно, дети изменников родины, врагов народа, по достижении двенадцати лет все-таки подлежали санкциям, более того — были обязаны разделить судьбу своих расстрелянных, своих законопаченных в лагеря отцов.
Вероятно, сказав в газетном интервью о том, что он «стал каким-то литературным диссидентом», что пишет «в стол», Нагибин имел в виду не только свою работу над повестью «Тьма в конце туннеля».
У него уже имелся более ранний опыт крамольного сочинительства.
В 1952 году, то есть еще в кромешные сталинские времена, он написал повесть «Встань и иди», где картины детства, предвоенных скитаний по городам и весям страны, вдруг приобрели очертания трагедии: человека, которого мальчик Юра считал своим отцом, которого в обиходе звали Марой, а в расшифровке он был Марком Левенталем, — этого человека в 1937 году арестовали, посадили во внутреннюю тюрьму Лубянки, потом приговорили к семи годам лагеря и еще четырем годам поражения в правах. Он отбывал срок в Кандалакше и в Воркуте.
Читать дальше