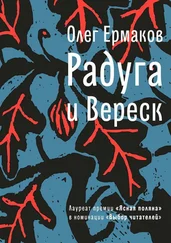— Спасибо.
Гарик отмахнулся.
— Спасибо будет потом, когда ты вернешься отсюда с чем—нибудь этаким в духе «Сада радости и печали». Кто знает, чем обернется эта как будто неудача, это как будто несчастье. «Научились ли вы радоваться препятствиям?» Итак, маэстро! В любой день ты можешь запереть дверь, пойти по дороге на шоссе, сесть на рейсовый автобус и уехать в город. Я, впрочем, завтра приеду тебя проведать.
Виленкин сделал нетерпеливый знак рукой. Гарик улыбнулся.
— Ну да, ты прав. Не приеду. Приеду через неделю.
И вот они распрощались. Гарик не прочь был остаться, но, во—первых, он обещал дома вернуться сегодня и утром, как обычно, отвезти дочь в музыкальную школу, — жили они на краю города, добираться в центр на трамвае по утрам было сущим мучением, в густой сутолоке борцовских спин, дебелых плеч; ну а во—вторых, маэстро уже был порядком утомлен, и приятной беседы у камелька все равно не получилось бы. Гарик сел в автомобиль, повернул ключ. Мотор затарахтел. Он кивнул Виленкину, автомобиль тронулся, объехал лужу, покатил, покачиваясь, в освещаемом туннеле изгородей, кустов, тьмы... скрылся.
Еще некоторое время слышен был мотор... Стих. Где—то лаяла собака.
Виленкин помочился в бурьян, взошел на крыльцо, закрыл за собой дверь, выключил свет и, не раздеваясь, лег на диван. Но долго не мог уснуть. Кружилась голова, ныла рана, — перед глазами чернел змеистый рубец, нет, еще не рубец, а короткая траншея, и в нее прятались человечки во фраках и белых рубашках или даже скорее обыкновенные кузнечики; словом, это были человечки, но держались они, как кузнечики, все движения, повадки у них были, как у кузнечиков, и большие бессмысленные стеклянные бледные глаза; они оставляли за собой пахучие следы; их было много, и все не могли уместиться в траншее. Ну и прочая ерунда. Хотя иногда возникали синие прорывы, и в них можно было погружаться как в совершеннейшую тишину. Но затем опять мельтешенье, шорох.
Проснулся он укрытый толстым ватным одеялом, хотя точно помнил, что никакого одеяла не было. Проснулся оттого, что кто—то тронул клавишу. Звук как будто еще реял в воздухе.
Виленкин давно подозревал, что транс—цен—денталисты просто часто бывали пьяны. Но, делясь своими переживаниями и озарениями, забывали сказать об этом.
Вот и он: длящийся звук, глубокий, чистый, и толстое одеяло, словно бы он вернулся в детство, и его только что накрыла тетушка, и она зачем—то коснулась клавиши. А маленькую деталь — жестокое похмелье — не упоминать.
Было тихо.
Свет как—то странно пробивался... И мгновенно этот слабый — гаснущий? — свет вызвал в памяти одну вещь великого Шнитке, а именно Кончерто гроссо номер три для двух скрипок, клавесина, приготовленного фортепиано и струнного оркестра. Пытаясь растолковать жене эту вещь, он набросал — словами — следующую картину, нечто вроде клипа: призрачный свет, вдалеке на пустынном пологом склоне фигура в темном за фортепиано; показываются два астронавта, шагают в скафандрах, ступают тяжело, из—под стоп вырываются черные облачка; приближаются к пианистке: ее фигура отражается в стеклах гермошлемов; пианистка стучит по обугленным, оплавившимся клавишам; неожиданно внимание их привлекает какое—то поблескиванье, над темной поверхностью вспыхивают серебристые линии, они складываются в очертания женских талий, — вдруг вырисовывается площадь, набережная, купола, дома, столп с крылатым львом, каналы, графика катастрофически оплотняется, в глаза бьет синева неба, вод, белизна и тяжесть куполов, зелень листвы, янтарь виноградной кисти в корзине, линия бедра под темной тканью, — и вновь все — лишь серебристый скелет графики, неслышные жалобы скрипок, или рыбок с женскими талиями, или чьих—то душ; клавесин наигрывает легкомысленный мотивчик, что—то почти ресторанное, и вступает пианистка, лица ее не видно, капюшон низко надвинут, — только костлявые пальцы ударяют по изуродованным страшным пламенем клавишам, и астронавты уходят, отдаляются очертания этой местности, виден абрис земли, неясный светящийся след ее в пространстве — и все пропадает.
Он покосился на окно. За занавесками нечто серо—кофейное, словно окна заляпаны чем—то. Это ставни, вспоминает он. Внутренние. Гарик собирался их снять, но забыл.
Хотелось пить. Но под толстым ватным одеялом он хорошо согрелся. А в доме довольно прохладно. Да попросту холодно! И он решил потерпеть.
Он подумал обо всем, что произошло. Это воспоминание было похоже на аккорд... Все—таки человек мыслит не словами, по крайней мере, он, Виленкин. Мысль быстрее и обширнее, глубже слова.
Читать дальше