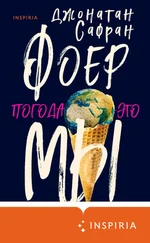— Спасибо.
— Деньги и фотографии я зашил под подкладку пиджака, в котором плыл в Америку. Я очень боялся, что меня обкрадут. Я обещал себе не снимать пиджак всю дорогу, но было жарко, нестерпимо жарко. Я спал с пиджаком в руках, и однажды утром, когда я проснулся, чемодан по-прежнему стоял рядом, а вот пиджак исчез. И потому я не виню человека, который его взял. Будь он вором, он прихватил бы и чемодан. А он просто замерз.
— Но ты говоришь, было жарко.
— Жарко было мне. — Он опустил палец на кнопку спуска, будто это взрыватель противопехотной мины. — Из Европы у меня остался только один снимок. Это мой портрет. Он у меня служил закладкой в дневнике, который лежал в чемодане. Карточки моих братьев и родителей были зашиты в пиджак. Исчезли. Но вот фотоаппарат, которым их снимали.
— А где твой дневник?
— Я его забросил.
Что мог бы я увидеть на тех пропавших фотографиях? Что я прочел бы в дневнике? Бенджи не узнал себя на школьном портрете, но что увидел, глядя на него, я? И что я увидел, глядя на сонограмму Сэма? Идею? Человека? Моего человека? Самого себя? Идею самого себя? Нужно было в него верить, и я верил. Никогда не переставал в него верить, а вот в себя переставал.
Сэм на своей бар-мицве сказал: "Мы не просили себе атомную бомбу, не хотели ее, и вообще ядерное оружие с любой точки зрения ужасно. Но есть причина, по которой человечество им обладает, и эта причина — чтобы никогда не пришлось его использовать".
Билли закричала что-то, я не расслышал, но я увидел счастливый блеск в глазах Сэма. Теперь центром напряжения в комнате стали бумажные тарелки и пластиковые стаканы; речь Сэма делили и разменивали на разговоры и болтовню. Я принес ему какую-то еду и сказал:
— Ты гораздо лучше, чем я был в твои годы. Или чем я сейчас.
— Это не соревнование, — ответил он.
— Нет, это развитие. Пойдем со мной на минутку.
— Куда?
— Что значит "куда"? Разумеется, на гору Мориа.
Я повел его наверх, к своему шкафу, и вынул из нижнего ящика дедову "Лейку".
— Это твоего прадеда. Он ее привез из Европы. Он подарил ее мне на бар-мицву и сказал, что у него не осталось снимков братьев и родителей, но остался фотоаппарат, которым их снимали. Я знаю, он хотел, чтобы его "Лейка" досталась тебе.
— Он говорил тебе?
— Нет. Но я это знаю.
— Значит, это ты хочешь, чтобы она мне досталась.
— Ну и кто кого направлял?
— Да, я, — ответил я.
Сэм взял "Лейку" в руки, повертел.
— Она работает?
— Боже, я не знаю. Не уверен, что это главное.
— Но в этом же смысл? — спросил он.
Сэм отремонтировал "Лейку": он вернул ей жизнь, а она вытащила его из "Иной жизни".
В колледже он изучал философию, но только в колледже.
"Лейку" он забыл в поезде в Перу во время медового месяца с первой женой.
В тридцать девять он стал самым молодым судьей, когда-либо назначенным в Апелляционный суд федерального округа Колумбия.
На мой шестьдесят пятый день рождения мальчики повели меня в "Великую стену", ресторан сычуаньской кухни. Сэм, подняв бутылку "Циндао", произнес прекрасный тост, закончив его словами: "Пап, ты всегда смотришь". Я не понял, имел он в виду мою осторожность или, наоборот, любопытство .
Тамир сидел на полу, привалившись спиной к стене, и глядел в телефон, который держал перед собой. Я сел рядом.
— Я засомневался, — сказал я.
Он улыбнулся, кивнул.
— Тамир?
Он снова кивнул.
— Ты можешь на секунду отвлечься от сообщений и послушать меня?
— Да никаких сообщений, — сказал он, показывая мне экран: мозаика превьюшек семейных снимков.
— Я засомневался.
— Только засомневался?
— Ты можешь со мной обсудить?
— А что тут обсуждать?
— Ты возвращаешься к семье, — сказал я, — а я бы свою бросил.
— Бы?
— Давай без этого. Я тебя о помощи прошу.
— По-моему, нет. По-моему, ты просишь прощения.
— За что? Я же ничего пока не сделал.
— Любые сомнения в принятом решении приведут тебя прямиком на Ньюарк-стрит.
— Не обязательно.
— Не обязательно?
— Я здесь. Я простился с детьми.
— Ты не должен передо мной извиняться, — сказал Тамир. — Это не твоя страна.
— Может, я ошибался.
— Да нет, очевидно, ты был прав.
— Ну, и как ты сказал, пусть это не мой дом, но это твой дом.
— Джейкоб, ты кто?
Три года подряд у Макса на школьных портретах были закрытые глаза. В первый раз это вызвало легкое разочарование, но все равно посмешило.
На второй год объяснить это случайностью было уже труднее. Мы поговорили о том, чем милы школьные фотографии, как трепещут над ними родители и бабушки с дедушками и что намеренно их портить — это выбрасывать на ветер семейные деньги. Утром в день съемки на третий год мы попросили Макса, глядя нам в глаза, пообещать, что он не будет закрывать глаза во время съемки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу









![Джонатан Фоер - Погода – это мы [litres]](/books/384453/dzhonatan-foer-pogoda-eto-my-litres-thumb.webp)