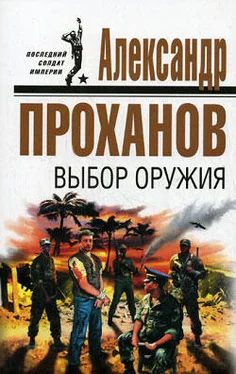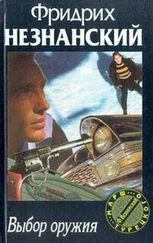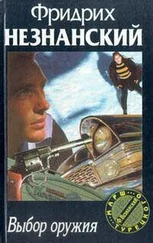Колдер хлебнул виски, наклонив белую костяную голову с черепными швами. Белосельцев, чуть опьяневший, почувствовал смутную, необъяснимую тревогу, услышав о Маквиллене и завтрашней поездке инженеров. Сидевшие перед ним англичане обладали африканским опытом, добытым не только ими, но и их отцами и дедами, вторгавшимися в Африку с винчестером, с пушечным фрегатом, с военным караваном торговцев. Они взломали африканскую дверь, вскрыли африканскую вену, напитали живыми африканскими соками свой сумрачный остров, а теперь презирают обескровленный континент.
– Вот подождите, – сказал он устало, – когда ваш «Лендровер» взлетит на воздух, напоровшись на мину, заложенную каким-нибудь человеком из Претории, вот тогда вы определитесь в своих расовых симпатиях и антипатиях.
– Красная пропаганда, – раздраженно ответил Колдер. – Никто нас не будет взрывать. Приставленная к нам охрана просто шпионит за нами. Ну их всех к черту! Пустим эту трехсоткилометровую кишку, убедимся, что в Хараре запахло бензином, упакуем свои чемоданы, и – прощай, марксистская Африка!
Белосельцев не стал продолжать разговор. Откланялся, вышел из бара.
Миновал гостиную с погашенным светом, с пустым бильярдным столом. Дверь в сад была распахнута. Льдисто белел фонарь, освещая холодным светом крону округлого лавра. Он стоял в духоте влажной, с океанскими испарениями ночи, глядел на льдистый фонарь, на стеклянную листву, понимая рассудком красоту этой ночи, не умея ею восхититься. Был не в силах ее пережить, пребывал в тончайшем, болезненном отчуждении от природы.
Он вынес из разговора англичан нечто смутное, тревожное, не имевшее объяснения, связанное с Маквилленом, о котором было сказано вскользь, какой-то пустяк, о какой-то завтрашней встрече, после которой Маквиллен вернется в Бейру и, по-видимому, встретится с ним. Но в этом мимолетно сделанном сообщении таилась тревога, опасность. Он не умел ее объяснить, только чувствовал ее приближение.
Белосельцев поднялся к себе в номер, лежал без одежды на двуспальной кровати под лепным королевским гербом. Маяк за окном бесшумно врывался в номер двойным скользящим лучом. Зажигал трепетным блеском зеркало, графин на столе, его голос, словно натертое ртутью тело. Выхватывал изображение комнаты и его, лежащего на кровати. Выносил наружу в ночь на огромных прозрачных пригоршнях и выплескивал далеко в океан. Опять возвращался. Протягивал в номер прозрачные пригоршни. Вычерпывал содержимое комнаты, извлекал материю света из зеркала, из графина, из его обнаженного недвижного тела и выплескивал далеко в океан.
Он лежал, ожидая приближения лучей. Чувствовал их бесшумный удар, вторжение в плоть. Он чувствовал свое убывание. Чувствовал, как рассасывается, растворяется его жизнь в бестелесных потоках света. И ее все меньше и меньше. И надо что-то успеть. Что-то понять и постигнуть. Что-то в себе самом. Из чего состоял, что помнил, любил и что бесшумно, с каждым поворотом лучей, у него отбирали.
Тот зимний трамвай в мохнатом на стеклах инее. Бабушка смотрит на него с обожанием. А он, сначала тихо, только ей одной, а потом все громче, привлекая внимание соседей, вдохновляемый их вниманием и одобрением, читает «Бородино». Трамвай колышется в зимних студеных сумерках. Пассажиры с умиленными лицами слушают. А он, в детском воодушевлении и восторге от стиха, от своей декламации, от бабушкиного влюбленного взора, выкликает: «Как наши братья умирали, и умереть мы обещали…»
Бородинское поле в хлебах, в скирдах, в летающих черных стаях. Они с мамой стоят перед каменным памятником, среди поникших колосьев. На памятнике – орел, скрещенные пушки, название кавалергардского полка. Поле дохнуло запахом сырой соломы, дуновением материнской прозрачной косынки.
Маяк своей властной беззвучной волей отбирал рождавшиеся образы, уносил в океан.
Он лежал обнаженный, под прозрачными лопастями бегущего света и плакал, не стыдясь своих слез. Повторял: «Как наши братья умирали…» Засыпал, пробуждался, вздрагивая от бесшумных прикосновений света.
Рано утром из окна отеля он смотрел, как у подъезда поблескивают стеклами два белых «Лендровера». Англичане, оба в белых шортах, рубахах апаш, ставят в машины дорожные сумки. Солдаты охраны, не снимая автоматов, помогали им, подносили теодолиты, ящики с минеральной водой. Обе машины легко и празднично унеслись, мелькая сквозь сосны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу