В тот раз я опять остался в полной уверенности, что уже никогда больше ничего о ней не услышу. И в очередной раз поклялся себе забыть скверную девчонку. Мне тридцать восемь лет — пора влюбиться в какую-нибудь менее взбалмошную и более понятную женщину, короче, в нормальную, с которой можно жить без внезапных встрясок, даже, если угодно, жениться и завести детишек. Но дальше планов дело не пошло, потому что в нашей жизни очень редко сбывается то, что мы, несмышленыши, для себя планируем.
Вскоре я вошел в нормальный рабочий ритм, и хотя обязанности мои порой нагоняли на меня скуку, отвращения все-таки не вызывали. Профессия переводчика, на мой взгляд, достаточно бесцветна, зато относится к числу занятий, которые не ставят перед тобой глубоких нравственных проблем. К тому же она позволяет путешествовать, неплохо зарабатывать и иметь довольно много свободного времени.
Единственной ниточкой, связывающей меня с Перу, служили письма дяди Атаульфо, которые становились все более безрадостными. Его жена, тетя Долорес, всякий раз собственноручно приписывала какое-нибудь приветствие, а я время от времени посылал в Лиму ноты, потому что при ее болезнях музыка, игра на пианино относились к числу редких доступных ей развлечений. Восемь лет военной диктатуры генерала Веласко и проводимая им экономическая политика — национализация, аграрная реформа, создание промышленного комплекса, командное управление экономикой, — по словам дяди Атаульфо, не приблизили страну к решению проблемы социальной несправедливости и колоссального неравенства, как и проблемы эксплуатации большинства привилегированным меньшинством. Попытки делались, но все меры на поверку оказались совершенно негодными — они лишь способствовали обеднению и тех и других, а заодно отпугнули инвесторов, уничтожили сбережения граждан, усугубили беспорядок и вызвали рост преступности. Хотя на втором этапе диктатуры, в последние четыре года, когда у власти стоял генерал Франсиско Моралес Бермудес, популизма в политике поубавилось, но газеты, радиостанции и телеканалы по-прежнему принадлежали государству, политическая жизнь была парализована, и на восстановление демократии вроде бы не оставалось никакой надежды. Каждая буква в письмах дяди Атаульфо буквально сочилась горечью, и я искренне его жалел, как и других перуанцев того же поколения, которые, дожив до преклонных лет, вдруг обнаружили, что их мечтам о динамичном развитии страны не суждено осуществиться, мало того, сами эти мечты теперь выглядят нелепо и абсурдно. Перуанское общество стремительно беднело, гибла культура, воцарялось варварское беззаконие. Что ж, выходит, я правильно сделал, перебравшись в Европу, хотя и живу здесь совсем одиноко. Одинокий безвестный толмач.
Постепенно меня перестала интересовать французская политическая жизнь, хотя прежде я следил за ней с неусыпным любопытством. В семидесятые годы, в пору правления Помпиду и Жискара д'Эстена, я уже нечасто читал новости. В газетах и журналах меня привлекали исключительно страницы, посвященные культуре. Я регулярно посещал выставки и концерты, но в театр стал ходить гораздо реже, потому что он заметно сдал по сравнению с минувшим десятилетием. Зато ходил в кино, иногда по два раза в неделю. К счастью, Париж оставался раем для киноманов. Литературные новинки тоже мало меня волновали, ибо, на мой взгляд, во Франции романы и эссе, как и театр, переживали не лучшие времена. Я очень сдержанно относился к интеллектуальным идолам семидесятых — Барту, Лакану, Деррида, Делезу и прочим, и над их многословными опусами, честно говоря, засыпал. Исключение составил разве что Мишель Фуко, чья история безумия произвела на меня сильное впечатление, как и его же эссе о тюремном режиме («Surveiller et punir» [75] «Надзирать и наказывать» ( фр. ).
), хотя меня не слишком убедили его рассуждения о том, что история европейского Запада — это история многочисленных институционных репрессий, когда с помощью тюрьмы, больницы, секса, правосудия и законов власть колонизировала все пространства свободы, дабы подавить любое инакомыслие, любые протесты. По правде говоря, в те годы я читал лишь умерших авторов, главным образом русских.
Я вечно был загружен работой и всякими прочими делами, и тем не менее именно в семидесятые годы впервые, задумываясь над смыслом собственной жизни и стараясь при этом быть предельно объективным, пришел к мысли, что существование мое по сути бесплодно и меня ждет обычная судьба закоренелого холостяка, к тому же обреченного оставаться чужим в этой стране, потому что я никогда по-настоящему не впишусь в жизнь своей горячо любимой Франции. И я всегда помнил пропитанную апокалипсическим скепсисом тираду Саломона Толедано, который однажды, когда мы собрались в комнате переводчиков в ЮНЕСКО, заявил: «Если вдруг, почувствовав приближение смерти, мы зададимся вопросом, какой след оставим на этой дерьмовой земле, придется честно ответить: никакого следа мы на ней не оставим, никакого — потому что только и делали, что говорили за других. Перевели миллионы слов, не запомнив ни одного, ибо они и не стоили того, чтобы их запоминать». Легко понять, почему коллеги-переводчики не слишком жаловали Толмача.
Читать дальше






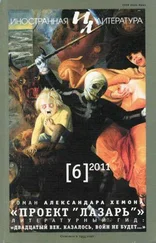



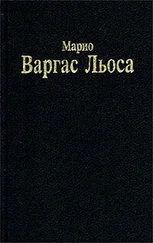
![Марио Варгас Льоса - Рота добрых услуг [сборник]](/books/415119/mario-vargas-losa-rota-dobryh-uslug-sbornik-thumb.webp)
