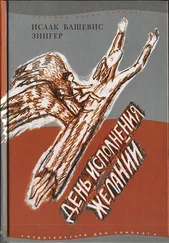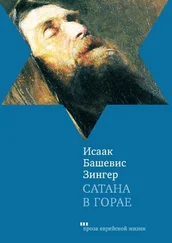Усталость заставила меня сесть. Стало прохладно, я прислонился к стенке. В горле першило, в носу стояла раздражающая сухость — верная предвестница простуды. "Кто-нибудь когда-нибудь попадал в такое положение?" — спросил я сам себя. Стояла тишина, та тишина, в которой ощущаешь приближение опасности. Я, оцепенев, прислушивался к ней и мог, пожалуй, насмерть замерзнуть в ту жаркую летнюю ночь. Скорчившись, я задремал — подбородок на груди, руки обхватили ребра, словно факир, давший обет навек остаться в такой позе. Время от времени я просыпался и пытался дыханием согреть ноги. Вслушивался в темноту, но слышал лишь мяуканье кошки на соседней крыше. В первый раз оно походило на плач ребенка, во второй — на стон роженицы. Сколько я проспал, не знаю — может, минуту, а может быть, и все двадцать. Мозг расслабился. Страхи улетучились. Я обнаружил, что нахожусь на кладбище среди вышедших из могил детей. Они играли. Среди них была маленькая девочка в плиссированной юбке. Сквозь золотые кудри проглядывали фурункулы. Я знал ее. Это была Йохевед, дочка наших соседей по Крохмальной улице, заболевшая скарлатиной и как-то утром увезенная на маленьком катафалке. Катафалк был запряжен одной-единственной лошадью, и в нем было много отделений, похожих на ящик комода. Несколько детей водили хоровод, а остальные качались на качелях. С раннего детства этот сон периодически возвращался ко мне. Дети, кажется, знали, что умерли — они не разговаривали и не пели. Их желтоватые личики несли печать той потусторонней меланхолии, которую можно увидеть лишь во сне.
Я услышал шорох и почувствовал прикосновение. Открыв глаза, я увидел Дошу в халате и шлепанцах. Она принесла мою одежду. Подтяжки вместе с рукавами пиджака волочились по крыше. Поставив ботинки, она поднесла палец к губам, показывая, что надо молчать, и скорчив мне гримасу, издевательски высунула язык. Чуть отступив, она, к моему изумлению, открыла люк на лестницу. Я чуть было не раздавил выпавшие из кармана очки. Стыдно сказать, но я даже не заметил, как Доша исчезла. Около меня валялась какая-то книжечка. Мой американский паспорт. Я начал искать деньги и кредитные карточки. Впопыхах умудрился натянуть пиджак шиворот-навыворот. Ноги дрожали. Проскользнув в люк, я очутился на ступеньках лестницы.
На первом этаже выяснилось, что дверь заперта. Точно вор, я стал бороться с замком — и, наконец, он щелкнул. Бесшумно затворив за собой дверь, я бросился наутек, даже не взглянув на дом, где был только что заточен.
Я вышел на улицу; похоже, ее только недавно проложили и не успели еще замостить. Я шел куда глаза глядят, лишь бы подальше, шел и разговаривал сам с собой. Остановив какого-то пожилого прохожего, я обратился к нему по-английски, и он, буркнув: "Говорите на иврите!", показал мне путь к гостинице. В его затененных глазах я прочел отеческий укор, будто он знал меня и угадал мое недавнее приключение. Не успел я его поблагодарить, как старик исчез.
Я остался стоять на том же месте, размышляя о происшедшем. Так я стоял один в тиши, подрагивая от охватившего меня рассветного озноба, как вдруг почувствовал, что кто-то ползет у меня по штанине. Я нагнулся и увидел огромного жука — он кинулся от меня прочь и исчез. Неужели это тот самый жук, которого я видел на крыше? Он застрял в моей одежде, но обрел свободу. Силы небесные предоставили нам обоим еще один шанс.
I
Про Франца Кафку я услыхал гораздо раньше, чем прочел его книги. Мне рассказывал о нем Жак Кон, друг писателя, бывший актер еврейского театра. Я говорю «бывший», ибо ко времени нашего знакомства он уже покинул сцену. Это было в начале тридцатых — когда еврейский театр в Варшаве начал постепенно терять своих зрителей. Сам Жак Кон превратился в болезненного, надломленного человека, и хотя по-прежнему одевался под денди, от его щегольства веяло убожеством: моноколь в левом глазу, высокий старомодный воротничок, известный под названием «отцеубийца», лакированные туфли, котелок. Злословы из варшавского клуба еврейских писателей, куда мы оба часто захаживали, именовали Кона «лордом». Он упорно старался не сгибаться под бременем все тяжелей давивших на плечи лет. Из остатков некогда белокурых волос он соорудил на голове некое подобие моста через лысину. Следуя былым театральным традициям, он время от времени переходил на онемеченный идиш — особенно когда заводил разговор о своей дружбе с Кафкой. Он начал пописывать газетные статейки, единодушно отвергавшиеся редакторами. Жил он в мансарде где-то возле улицы Лешно и частенько хворал. У завсегдатаев клуба была в ходу острота на его счет: "Весь день лежит в кислородной палатке, а вечером выходит оттуда, как Дон Жуан от любовницы".
Читать дальше



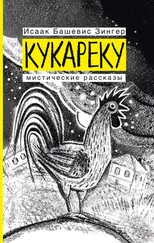

![Исаак Башевис-Зингер - Короткая пятница и другие рассказы[Сборник]](/books/148307/isaak-bashevis-thumb.webp)