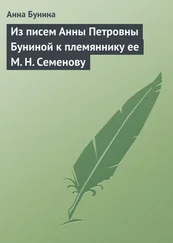Ощущение было унизительное, и она тотчас попыталась прекратить его, попробовав хотя бы приподняться. Но тут же чуть не погибла от боли, тягуче взнывшей в шее-затылке, едва она усилилась поднять голову.
Осталась лежать как лежала, однако, слава Богу, теперь-то хоть понимала, что лежит на кровати в убогой своей комнатенке, и нет никакого пола, и нет щели, в которой она валяется, всеми забытая, — хотя комнатенка по-прежнему до ужаса напоминала ей именно пыльную щель, в которой она валяется и умирает, всеми забытая.
Она скатила голову набок и увидела человека, бессонно и послушно сидящего за ее столом.
Вновь ощущение разражителъной странности, с какой она очнулась, вернулось к ней. Вновь перестала она понимать: где она? что она? что с ней?
Она лежала, беспомощная — (опять показалось, что низко, едва ли на полу…), а за столом какой-то мужчина — она пригляделась и оторопела, — старательно и неумело ковыряя иглой, со смешной уважительностью вытягивая вверх чуть ли не полуметровый хвост нитки, зашивал ее халат!
Едкая злая досада, как кислота, стала разъедать ее.
Все было не так! Какой-то вывих присутствовал во всем. Все было — словно бы назло и на неудобство!
И одеяло давило, как раскаленное, — а она не могла, не было сил, распахнуться, дать телу прохладу.
И стена, рядом с которой она лежала, все время (она слышала это!) пошатывалась и слабо кренилась, норовя каждую секунду пасть на нее, — а она не была в состоянии даже отползти хоть немножко к краю! Куда там отползти! — она даже пальцем не могла пошевелить, буквально: мысленно обращаясь с повелением к пальцам руки, а они оставались недвижимыми, потому что сигнал (она это видела) тотчас гас, будто бы вяз, во тьме ее глохнущего тела.
Тесно было.
Раздражительно было.
Досадно было и тошно.
Потом — будто перекрыли какой-то вентиль. Ощущение тесноты, и раздражение, и обида, и злая досада — все это, как грозная вода, стало быстро-быстро копиться, переполнять… Наконец затопило и — Анна Петровна, дико вдруг рванувшись, перекатилась по кровати и упала — как бросилась — на пол, не услышав ни боли от падения, ни испуга, — зацепившись вниманием лишь за мельком мелькнувшее чувство горделивости от своего, пусть и такого движения.
…И кто-то выкрикнул — с отчаянием, с веселым ужасом, с самой последней надеждой:
— „А-а-ань!!“ — и она мгновенно увидела летящий прямо на нее мяч — мрачно-наждачного цвета, кирзовый, не очень хорошо накачанный и оттого скорее многоугольный, нежели круглый, волейбольный мяч, по-мужски хлестко и отчетливо-зло пробитый на нее наискось площадки огненно-рыжим, жестко-курчавым, бессловесным военлетом из соседнего санатория, который играть в волейбол всегда почему-то („Почему бы это?“ — усмехались здешние барышни, поглядывая при этом на Анну Петровну) приходил к ним, хотя, по всеобщему мнению, в „Фабрициусе“ и площадка была гораздо лучше, и новая сетка, и мяч — кожаный, и игроки были несравненно сильнее… Не сильнее, впрочем, чем этот, огненно-рыжий, о котором говорили, что он играл за „ВВС“, и о мастерском классе которого действительно говорило буквально каждое его движение на площадке: и то, как он дает подачу — таким ошеломительным „крюком“, что мяч, промчавшись по краткой дуге низко над сеткой, чуть не отвесно ли обрушивается на вторую линию, вызывая беспомощные и жалко-суматошные жесты защитников: и то, как он мягко, с трогательным прямо-таки уважением к партнерам (которые уважения этого явно никак не заслуживали) выполняет передачи; и конечно же, то, как он атакует, когда случается хороший пас над сеткой, — выскакивая к такому мячу даже от задней линии, жадно, радостно, хищно, и тотчас выбивая его чуть ли не под самую сетку, как некий победоносный восклицательный знак ставя во славу Настоящего Волейбола, о котором здесь, разумеется, понятия не имели.
…Он возносился в такие мгновения над сеткой грозно и неумолимо — чуть ли не по пояс! — слегка откинув корпус назад, с рукой, заломленной в замахе, чуточку медлил в полете, словно бы озирая площадку противника… а затем раздавался жест — именно раздавался — сабельный молниеносный жест удара, которым этот рыжий бил, как убивал.
От его ударов — настоящих ударов — немыслимо было защититься, это уже давно всем было ясно, — это всем было ясно и тогда, когда с отчаянием, и веселым ужасом, и самой последней надеждой все вдруг крикнули: „А-а-ань!“ — и она увидела, как в лицо ей мчится серый угловатый камень мяча, пробитый с такой бешеной силой, что он даже никак не вращался, а словно бы стоял в воздухе, слегка только рыская из стороны в сторону.
Читать дальше