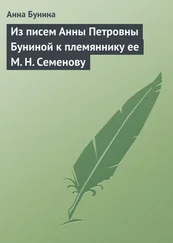Наглая щетина чьей-то шинели елозила ей по лицу. Было пронзительно, визгливо страшно. Но и озабоченно проталкивая туда, подальше в темень свою голову, царапая нежное лицо свое о грязный наждак чьих-то одежд, отупевшая от страха, она слышала еще и: тоскливое, тоскливо длящееся отвращение к тому, что с ней сейчас происходит, гнусную тоску унижения и жгучий стыд от невозможности не быть такой же, как все, — и умоляла себя перетерпеть все это, потому что так легко было, так легко было бы умереть в ту минуту и от этого отвращения, и от этого стыда.
И когда потом грубая рука выдернула ее из того по-овечьи сбившегося клубка и бегом потащила, причиняя непереносимую боль в выворачиваемой лопатке, по вагонному проходу, тесному и толкливому от быстро, ловко шастающих из отсека в отсек азартно-молчаливых мужиков, волокущих с собой чемоданы, расползающиеся узлы, упирающихся людей, — когда потащила ее эта ошеломительно-грубая стремительная сила, она прежде всего, конечно, вопль смертный услышала в себе, но и облегчение почувстовала вдруг — странное, потому что тащили ее, быть может, на еще большее унижение, а может быть, и на смерть…
Возле поезда, остановившегося прямо посреди поля, творилась суета, воровская, быстрая, тем более труднопонятная, что уже пали сумерки, и с каждым, казалось, мгновением меркло вокруг все определеннее и быстрее.
Сани, всадники, подплясывающее в седлах, беспокойные кони, рвущие из рук повода, раздробь в разные стороны бегущих, ползущих, скатывающихся, карабкающихся фигур… Она успела заметить все это мельком, потому что тащивший ее, ничуть о ней не заботясь, прыгнул с подножки вниз, и Анну Петровну тотчас тоже выбросило из тамбура.
Отыскав руку, он снова дернул ее из сугроба и повлек дальше — теперь-то, слава Богу, он хоть не выворачивал ей лопатку.
Анна Петровна, более всего озабоченная тем, чтобы удерживаться на ногах, все никак не поспевала взглянуть в лицо своего похитителя — дабы прочесть хотя бы намек на свою ближайшую будущность.
Наконец он оглянулся продолжительнее (споткнувшись, она нечаянно пала на колени), — оглянулся, и все помрачилось в ней от тошноты и омерзения!
Нетопырь самых страшных ее детских сказок — низкорослый, жилистый мужичонка, недавний развратный мальчишка, с окаменелыми синими узлами непрорвавшихся чирьев на лице, мокрогубый, с вывороченными ноздрями маленького и словно бы переломанного в переносье носа — вот кто тащил ее!
И дальше — от тошнотворного отчаяния, охватившего ее, — она уже не смогла бежать.
Он продолжал, однако, волочить ее за собой зло и непреклонно, сам уже явно изнемогая и от ее вялого сопротивления и от тяжести двух кожаных черных чемоданов, которые он тащил, каким-то чудом удерживая в одной руке, помогая себе при каждом шаге отчаянным толчком колена.
Один из чемоданов, наконец, стал разваливаться. Кружевное, бело-розовое полезло наружу, облепляя ему ногу.
Он выпустил руку Анны Петровны и, быстро встав на колени, жадно принялся упихивать белье назад в чемодан, откуда оно упорно, как опара из-под спуда, все обильнее, казалось, и настойчивее рвалось назад.
Кто-то, пробегая, больно шибанул ее в плечо. Анна Петровна, вскрикнув, отлетела на шаг-другой, тут ее снова, не видя, толкнули, и только тогда, словно опомнившись, она наконец побежала.
Шарахаясь лошадиных морд, полуослепшая от страха, панически отскакивая от встречных, вырываясь из каких-то лениво-бесстыдных рук, походя лапавших ее, бежала Анна Петровна, сама не ведая, куда бежит, с единственным отчетливым чувством: „Прочь!“ — и уже холодно слышала, как безумеет ее мозг от этого лихорадочного ощущения себя щепкой, пляшущей в буйно бурлящем котле.
И вдруг:
— Девка, стой! — как с неба слетел с коня, молодо и ладно впечатав ноги в снег перед нею и одновременно же ловко и быстро цапая за руку, чуть не ломая при этом, даже через рукав пальто, тонкое ее запястье.
— Стой! Попалась, красавица?
Он был, как ни странно, и безмятежен, и беззаботен, и беззлобен, и даже отчего-то весел, и, быть может единственный, никак не озабочен жалкой суетой творящегося вокруг грабежа. И — словно бы кругом очерченное — царило возле него удивительное в этом злом содоме пространство тишины, бежать которой, вырваться из которой (она это мгновенно осознала) было ей уже не под силу.
И, сдаваясь, она опустила руки.
Обломок кирпича, почти половинка его, был тщательно завернут в бумагу и густо, неумело обвязан черными нитками.
Читать дальше