Генри хорошо знал эти ничего не стоящие утешения для успокоения совести, призванные облегчить расставание. Не придав им значения, он спросил, не сказал ли Хармс еще чего-нибудь, не упомянул ли уже о преемнике, ведь не увольняют же человека, не подумав о замене.
– О преемнике Ханнес ничего не сказал.
– Но он ведь понадобится нам, – напомнил Генри.
– Это уже не моя забота, сынок, но если бы я мог выбирать, ты бы, пожалуй, подошел, ты бы справился с нашим делом. – Бусман махнул рукой, состроил гримасу, резко встал и, не сумев выпрямиться, тяжело плюхнулся обратно на табурет. – Если хочешь, Генри, я замолвлю за тебя словечко.
– Спасибо, но мне это не нужно.
Он с тревогой наблюдал, как Бусман пытается подняться, предостерегающе подхватил его и спросил:
– Как ты считаешь, Альберт, не проводить ли мне тебя домой? Все равно рабочий день подходит к концу.
– По мне, так пойдем, – согласился Бусман, – последние минуты я, пожалуй, могу себе подарить.
Генри отбуксировал своего пожилого коллегу сквозь крытый перрон, через привокзальную площадь, твердо удерживая его у светофора и уберегая от попытки перелезть через заграждение перед котлованом, по пути они почти не разговаривали. Прохожие то и дело останавливались и с интересом поглядывали на них, некоторые оборачивались и смотрели им вслед, пытаясь понять, почему тот, что постарше, нуждается в опоре. На мосту они остановились, Бусман ухватился за перила и посмотрел вниз, на канал; там навели понтон, и рабочие в забрызганных илом стеганых штанах расчищали дно. Специальными граблями и укрепленными на тросах крючьями они вытаскивали все, что осело в иле под мутной масляной поверхностью: пружины и камеры от шин, горы консервных банок, кованый стул, стальную каску, велосипед; все, что извлекалось на свет божий, бросали в лихтер. Вот плюхнулись забитые грунтом сапоги, аптечка перелетела через суденышко и снова шлепнулась в воду, детская коляска увенчала гору хлама.
– Никаких владельцев, – пробормотал Генри, – никто не заявит о потере этого мусора.
Он подумал: «Отвергнуто, утоплено. Большинство вещей утоплено тайком, в темноте. Избавились. Безымянные находки. Не потеряны, не забыты, просто выброшены, и никакой ответственности. Сколько всего под водой, на дне рек, озер, на дне морском! Сгинули, утонули».
– Это барахло уже никто не захочет получить назад, – проговорил Бусман, и Генри поддержал его:
– Да, здесь нам было бы нечего делать.
Они помахали рабочим на понтоне, понаблюдали еще, как огромные грабли выудили из канала кусок водосточной трубы, и отправились дальше. Так и шли молча, пока не очутились перед домом, где жил Бусман. Генри открыл входную дверь, давая понять, что хочет подняться вместе с ним, но Бусман опустился на ступеньку и покачал головой. Дальше его не надо провожать, до квартиры не надо. Он поблагодарил Генри, протянул ему, не глядя, руку, потом полез в карман куртки, чтобы удостовериться, что взял с собой письмо.
– Ты правда дойдешь один, Альберт?
– Тут всего несколько ступенек.
Генри хотел оставить его одного и не решался, он взглянул на лестницу, словно оценивая те усилия, которые еще предстояли Бусману, секунду раздумывал, не сесть ли рядом и не выкурить ли сигарету, но не сделал этого, так как Бусман подтянулся, ухватившись за стойку перил, и улыбнулся ему.
– Пока, Альберт, – попрощался Генри, тихонько повторив: – Пока, – и вышел.
Бросив последний взгляд на дверь, Генри уже знал, куда пойдет; целеустремленным шагом, не останавливаясь на мосту, он вернулся на вокзал и прямым ходом направился к мощному строению из клинкерного камня, в котором располагалось правление железной дороги. Синий символ «Немецких железных дорог» красовался над входом. Девушка на проходной, видевшая, как он в легком прыжке выскочил из вращающейся двери, с уважением кивнула ему, это была симпатичная девушка, наглядно демонстрировавшая изящность железнодорожной униформы; пока звонила, она одной рукой разглаживала непокорную юбочку.
– Могу я еще раз услышать вашу фамилию?
– Неф, – произнес Генри, – я хотел бы поговорить с Рихардом Нефом, это мой дядя.
Генри отвернулся и принялся разглядывать гравюру, изображавшую торжественное открытие первого железнодорожного сообщения между Нюрнбергом и Фюртом; при этом от него не укрылось, как изменился самоуверенный голос девушки, став услужливым и понятливым:
– Да-да, конечно.
Она попросила Генри еще немного подождать: там, наверху, как раз посетители. Генри смотрел на окна вагонов первого поезда, не удержавшись от ухмылки при виде отважных пассажиров, которых трепал встречный ветер, у одного слетела шляпа, другой пытался спасти свой метровый шарф, кто-то махал платком, кто-то высоко поднял бутылку с вином, по широко раскрытым ртам можно было догадаться, что все поют.
Читать дальше
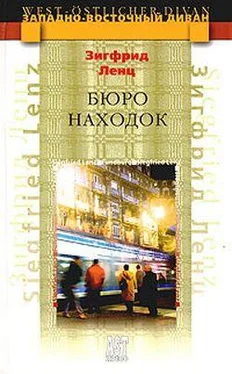





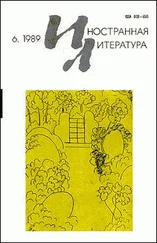



![Сьюзен Виггз - Книжный магазин «Бюро находок» [litres]](/books/434917/syuzen-viggz-knizhnyj-magazin-byuro-nahodok-litre-thumb.webp)
