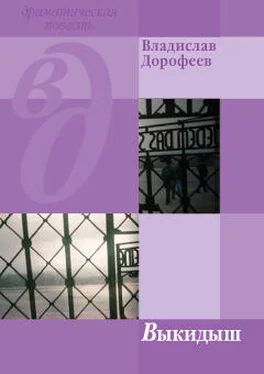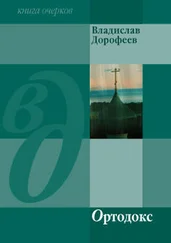Может быть впервые я столь отчетливо осознал огромную работу, выполняемую каждым из художников, чтобы нащупать современный язык образного мышления, чтобы найти адекватные времени и новому человеку образы и художественные понятия и принципы.
Конечно, есть некоторый аморализм в самой идее музеев по изобразительному искусству. Каждая картина – это обнаженные человеческие нервы. Картина – это не книга, скрытая за обложкой и шифром слов, которые еще нужно прочесть, картина – это тело с содранной кожей, а каждый взгляд зрителя – соль на кровоточащие мышцы.
При этом искусство всегда сакрально. В двадцатом веке, четырнадцатом, шестнадцатом, восемнадцатом, девятнадцатом, рисуя картины/иконы/фрески (с содержательной точки зрения – это одно и тоже), художник всегда рисовал/изображал свой внутренний мир, либо отказываясь при этом от Бога, либо стремясь к Богу, но всегда находясь на пути к Богу.
Позднесредневековая живопись, тем паче живопись Возрождения, знаменует свободу воображения, которая исходит из свободы любопытства, до времени сдерживаемой церковными канонами. Эта живопись уже светская, изобилующая подробностями и деталями из религиозной и церковной практики: как выглядели черти и другие демоны и злые духи, на что похоже адово пламя и страдания человеческие.
Иконописная живопись оберегала человека от этих подробностей в силу слабости человеческой и невероятной изощренности и хитрости демонической. Ибо, изображаешь, разоблачаешь одну из демонических линий или сторон, демонический мир изобретает и являет внутри себя множество новых сторон, чудовищнее и страшнее, мучительнее для человека.
К тому же любопытство к демоническому началу, не вооруженное средствами обороны, нападения и разрушения врага, оказывается беззащитным и потому крайне опасно для человека, ибо разжигает страсть. Любая страсть губительна. В нашем случае свобода любопытства привела европейскую цивилизацию к церковной реформации, утилизации и формализации церковного сознания, превратила в соляной столп, как жену Лота, которая не остереглась, и поддавшись страсти любопытства, обернулась на горящие в адовом пламени Содом и Гоморру, и осталась навечно застывшей в виде соляного столпа.
Но случилось это уже в Новое время, когда культура оторвалась от базиса Церкви и христианства.
Хотя западное искусство второй половины, особенно конца двадцатого столетия – это искусство абсолютно личностное, протестантское в своей основе. Это искусство выбора в одиночестве, искусство наедине с самим собой – каждый зритель создает свое искусство здесь и сейчас.
Почему Босх или Леонардо да Винчи не рисовали, как Кокошка или Клее, или Пикассо, Шагал, Ясперс Джонс? Не могли, не хотели, не видели, не чувствовали? Не было спроса. Не было такой внутренней человеческой задачи. Теперь она появилась – и художники начали отвечать по иному, нежели во времена Рафаэля и Леонардо. Титаны прикасались к вечности, кто-то даже входил в эту реку безмятежной любви. Никогда нельзя вычерпать из этой реки – она вечна и неистощима, также вечны вопросы, на которые отвечает художник.
Нельзя сказать, кто ближе к Богу, кто к человеку – Тициан или Шагал: оба на одинаковом расстоянии. Современное искусство также важно и значительно, как и средневековое или начало века. Оно лишь стало концептуальнее, то есть идейнее, в нем больше логики и разума, нежели у Леонардо. Но ведь не разум определяет: жить человеку – или умереть.
Разные концептуальные художественные акции – это такие полнокровные ответы на мучительные внутренние вопросы.
Впрочем, новые качественные достижения в культуре возможны только за счет взаимопроникновения и взаимовлияния – Гоген – Азия. Соратники Гогена отправились в Африку. И там нашли точку соприкосновения и взаимопроникновения культур. Например, Макс Эрнст и Модильяни.
То есть новое великое, новая эстетика, новый стиль возможны только на стыке неведомых и даже чуждых культур и воззрений.
Нет большой смысловой, целевой, идеологической, концептуальной разницы между «Мадонной с младенцем» Лукаса Кранаха, написанной в иконописной манере в пятнадцатом веке, и сделанной в шестидесятых годах двадцатого столетия, то есть спустя пять веков, картиной «Wall street» , которую даже картиной нельзя назвать, ибо это измалеванная доска, к которой прикреплена палка в виде шлагбаума, к концу которого прикреплен длинный пожарный брезентовый рукав, такой длинный, что его пришлось уложить на полу в рулон.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу