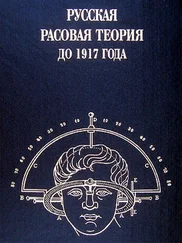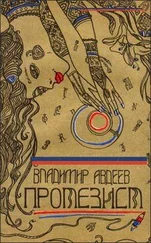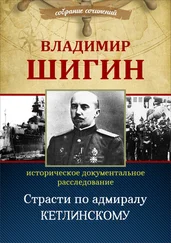Перламутровый дым, сгустки коего в массивных драпри гардин обретали желтоватое свечение, а также год разлуки действовали на нас, точно малая концентрация веселящего газа.
— Ну, мой милый племянник, поведай же мне истины, до коих тебя угораздило добраться за это время, — начал дядя после ряда общеупотребительных проходных фраз, содержание которых мгновенно смывается из памяти. Неужели это так просто: скомпоновать в несколько благопристойных законченных предложении, что теснилось в горниле моего духа, временами, даже безрассудного?
— Глупая выспренность, мой дорогой Тулов, мешает мне подчас начинать говорить так легко и звучно, как это имеют обыкновение проделывать более осмотрительные люди. Одним словом, с некоторых пор я начал усматривать во всякой иррациональности куда меньше зла, чем ранее. Каждая реалия бытия, ранее бывшая для меня оплотом мировой несмышлености, обличилась теперь в ходячую ярмарку здравого смысла. Я стал понимать, почему так часто мне приходилось в мыслях; противиться каверзам своих речей, что изливались тот миг. Я говорил так единственно по причине того, чтобы не думать так. Я извергал устами то, что мешало мне быть собой, быть лучше, чем собой. А толпа убогих празднолюбцев принимала это за откровение и; очевидно, платила той же разменной монетой лжи, не отдавая себе в том отчета. Я целовал ту пядь земли, на которой мне пришло в голову, и не просто пришло, но вызвездилось как выстраданный лозунг, что моральное истолкование жизни — самое поверхностное, шаткое и искусственное истолкование ввиду искусственности и уязвимости самой морали. И нельзя объяснить многосложную теорему жизни примитивными формулами первого порядка. А ведь почти все моральные сентенции чадят простотой, от которой я все больше задыхаюсь. Там, вдали от цивилизации, в этом мизерном во всех отношениях селении X я баловал себя единственным удовольствием, я рвал волосы что есть мочи, вознося свое естество на вселенский купол фантасмагорической гиперболы, с единым желанием приблизиться к Богу, ежемгновенно рискуя скатиться в гармоничную геенну патологии. С упоением небожителя я набрасывался на обнаженную мысль, точно на женщину раздираемый тотальным сладострастием отшельник. Меня хандрило и мяло, когда я выбирался из лилого саркофага аффекта, что следовал за этим состоянием застолбленной вершины, и ехидная улыбка неслась вослед благодарению Господу в качестве дополнения. В чудовищном аномальном альянсе во мне обнимались страсти аскета-распутника.
Я сжал подлокотник плюшевого кресла и, лишь произнеся последнее словосочетание, почувствовал боль в пальцах, покрывшихся налетом бледноты.
— О-о, мой дорогой Габриэль, я вижу, в тебе и впрямь прибавилось страстей, и даже не знаю, что сказать тебе на твои экспрессивные речи. Что ж, весьма может статься, что сие и есть твое предназначение — за неимением опасной, полной всевозможных экзотических красот жизни найти отраду в опасных, дерзких мыслях. Цена падения, правда, остается прежней, можно разбиться насмерть. Однако осмелюсь задать нарочито безыскусный вопрос, — продолжал дядя, лепя из своего голоса что-то наподобие одышки, точно ему понадобилось выдохнуться, прежде чем узнать это.
— Не возникало ли в твоих ершистых мыслях желания жениться, разумеется по любви, упасть навзничь в цветной плюш и умиляться на щебетание свежекрещеных детей, единственным достоинством коих является умение достраивать наяву те глупости, что плесневели в наиболее лелеемой и труднодоступной части нашего сознания. Ведь рождение детей есть наиболее доступный способ избавления от себя.
— По довольно странному стечению обстоятельств я воспринимаю женщину только лишь как награду, то есть в двух ипостасях гетеры и музы, но никак не домашней хозяйки. И потому любая из них, как и положено учрежденной награде, неспособна вызвать максимум чувств и мыслей по сравнению с невознаграждаемым самосознанием моего духа. Единственное, чем можно увенчать пламя, — это копоть.
— Мне нравится твое лицо, снабженное блеском глаз, голодным блеском. Похоже, что ты начинаешь мужать, мой дорогой Габриэль. Извини, я, наверное, скажу очень зло, но, глядя на тебя, я хочу думать, что быть сиротой — это талант. И, кроме того, быть сиротой — это судьба, и не самая злая судьба. Ведь судьба никогда не бывает злой, ибо для злости она слишком разнообразна и талантлива. В свое время я, наверное, почти что на ощупь почувствовал, что безмерно счастлив, когда перестал спрашивать Бога: «За что?» «Прост так», — ответил бы я на его месте.
Читать дальше