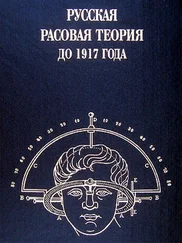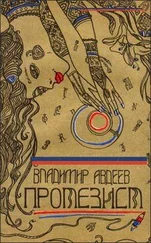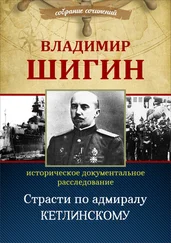Галерея ослепительно глянцевых подручных улыбок, источающих беломраморный оскал напускной доброты.
Приземистый лес разноцветных чулок.
Учтивое наваждение часовни, шестьсот лет назад мечтавшей о вечном наркотическом одиночестве, а теперь вдруг оказавшейся в сплетении торгового центра — выцветшее моление в искусном макияже криводушного многолюдства.
Разноцветное черенение улиц с нескончаемым потоком фиакров, карет, повозок, катафалков, телег, ландо, запряженных лошадьми различной степени преуспеяния.
Вход в фешенебельный салон мистификаций через арку испрашиваемой милостыни и золоченый саркофаг для нее.
Модный поэт и модный банкир, модный жокей и модный кондитер.
Город — белый воротничок.
Мусорный ящик для стертых от усатых поцелуев душистых дамских перчаток.
Летучая пудра фаты на стародевичьем приданом. Парадный вынос банкира, отравившегося свежей земляникой, но смерть на ложе любви по-прежнему собирает больше любопытных.
Продажа тела и продажа души согласно тарифу плюс безмолвная щепоть чаевых и благословляющий раздевающий взгляд.
Приют для ампутированных ветеранов неизвестной войны и беспрерывные танцы, завсегдатай маникюрного заведения, чахоточный палач и розовощекий скрипач, хотя положено наоборот.
Я протягиваю вперед руку и получаю в нее горсть горластых визитных карточек и монументальных рекламных проспектов от дамского мыла до новейших гаубиц и детских арф.
Я протягиваю вперед носок туфли, и на нее набрасываются обувные щетки уличного чистильщика или пара гигантских цепных псов с непременным десертным окриком садовника.
Я наклоняю вперед голову, и мне предлагают учебник латинского языка, лорнет на золоченой ручке, микроскоп для наблюдения за личной жизнью вирусной оспы, лицевые протезы, свежие сплетни, одно-два чуда света и какие-нибудь античные безделицы.
Я наклоняю голову назад, и под нее уже подкладывают пуховую рыхлоприятную подушку — сама белизна — и восемь часов гарантированного апломбированного сна, увенчанного, точно идолом, чашкой душистого кофе.
Я небрежно забираюсь в шерстистый сумрак, слегка сгибаю руку в локте, как ее тотчас обвивает благорасположенная бархатная дамская ручка, и иммартелевый шепот заставляет мяться соблазнительную твердыню вуаля мягкими бичеваниями амурного инструментария.
Я едва приоткрою рот, как проворная ручонка ученика кондитера насильно облагодетельствует меня, словно кляпом, тающим пирожным в густом хрусталь-ном нимбе ликерных испарений.
Я поиграл пальцами так, точно уловил в ажурности окружающей меня образной ткани легкое недомогание, и меня пленят кольцом, оседланным несколькими каратами непременно чистой воды, или предложат взять наугад несколько нот с клавиатуры рояля, вложить их в лузу ушной раковины и подивиться на чистоту и невесомость звучания. От обилия роскоши и нищеты, не вмещающихся ни в какие мыслимые рамки, меня на первых порах замучает тик, цветная слепота и привидится подробный чертеж геенны…
…но это пройдет.
А сейчас во внутреннем кармане сюртука, там дальше, за бумажником я отыскиваю брезгливость, которую нужно срочно реставрировать. Кроме того, после провинции я непременно сяду на лингвистический карантин, и все будет славно.
Я обогнул группу молодых содомитов, выпавших по воле всемогущего инстинкта жизни из обрюзгшего клише моральности, и не найдя ничего лучшего, купил кулек незатейливых сладостей и раздал их новопридуманным детям, предающимся священнодействию своей игры здесь, у меня под ногами.
Я проглотил это гулливерово чувство, и опьянение экзистенцией толкнуло меня ладонями в спину так, что я едва не упустил с носа свои розовые очка, что упали бы в качестве изумительной милостыни в потрепанную бархатную шляпу желтолицего нищего, похожего на египтянина. Последний леденец я отдал молодому скомороху в полосатых брючках, незатейливо подминающему желания своих сверстников, и мальчик даже не вздумал меня благодарить. Он воспринял дарственную сладость как достодолжную сладость бытия.
Этот леденец принадлежит ему от рождения.
Миновав ореховую аллею, я умерил шаг возле празднично убранной церкви и с чувством почти того же ранга воззрился на двух молоденьких уличных девиц, окропивших меня сладострастным взором. В юных блестящих глазах клокотала богиня любви, и глубокий вздох согнал с меня мантию мыслебоязни. Я познаю свой богоискательский дух через волю. Ее же я осознаю посредством тела, ибо уверен, что допрыгну от любви к женщине до любви к Богу за один раз, потому что я сильный человек. Молясь, я ощущаю мускулы, и оттого молитва моя приобретает мужскую основательность, и, следовательно, она не есть акт утилитарного отчаяния, но есть акт недвусмысленной преданности. Молитва — это вполне мужское дело.
Читать дальше