У Эфраима-вдовца был отрешенный взгляд идиота, не примиренный, а покорный. Возмущение даже не шевельнулось в нем, когда Толстуха Ренет закрыла глаза — с той особой медлительностью, свойственной умирающим, которая смыкается с вечностью. То есть с миром, где правит Отец и Царь Небесный, Предвечный Владыка. За всю жизнь Эфраим возмутился только один раз, когда восстал против отца, своего земного отца из плоти и гнева. Но против Отца Небесного не восставал никогда. Слишком простой и цельной была его вера, чтобы его могли коснуться муки сомнения, искус отчаяния, возмущения, отрицания. Бог дал. Бог взял. Господь Премилостивый и Премилосердный. Вот почему он, безутешный раб, с таким смирением провожал рабу Божию Рен к Владыке, Творцу и Искупителю. И оставался в ожидании дня, когда и он будет призван в свой черед. Со смирением принимал он одиночество и горе. И в сердце его, удрученном потерей Рен, разлукой с нею, звучал гимн отречения и жертвы. Под псалмопение Блеза-Урода слагал он свою простодушную молитву.
Взирай, о Рен, взирай и радуйся
и забудь все земное и все муки земные,
и возжелает Царь доброты твоей.
Ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему!
Он наш Господь, и я веду тебя к Нему.
И беднейшие из народа будут умолять лице твое.
И умершие нечестивой смертью, как Марсо,
будут умолять заступничество твое.
Дщерь надежды и молитв, вот вся ты, в простоте твоей,
одежда твоя — простой холст, возлежишь ты в буковом гробе.
Облаченная в нашу любовь, ведешься ты к Царю.
За тобою ведутся отроки, сыны твои,
приводятся с тоскою и надеждой, с болью
и благодарностью.
Вместо сынов твоих и меня ангелы окружат тебя.
Ты будешь хранить сынов твоих по всей земле…
И позовешь меня к себе, скажи, ты позовешь меня к себе?..
Сыновья Эфраима были так же просты, суровы и тверды в вере, как отец, в каждом была толика трепетного восторга перед Пречистой, которым Эдме заразила всех домочадцев. Здесь были все обитатели Крайнего двора: мать, муж усопшей Рен и сыновья ее. Младший шел впереди. Утренние братья несли буковый гроб, а Вечерние замыкали шествие. Все в сборе, кроме одного.
Из-за того, что он, один из сыновей Полудня, пропал, и умерла Толстуха Ренет. В тот студеный вечер, когда исчез Симон, сметенный, словно черным вихрем, злобным смехом Амбруаза Мопертюи; умчался на спине вола, подгоняя его рыданиями, поднялся стон среди лесов. Жалобный стон стоял и на поляне Буковой Богоматери. Там завывал ветер, захлестывал высокие гладкие стволы, трепал голые ветви, впивался в крылья ангелов, просачивался меж пальцев, держащих сердце, трубу, топор или колокольчики, свистал в складках серой лубяной одежды, хлестал по плечам, украшенным изображениями птиц, пчел и рыб, всхлипывал, проникая в щели меж век и губ: у одних — сурово сомкнутых, у других — приоткрытых в улыбке. Завывал ветер, не мрачный, как смех Амбруаза Мопертюи, а заунывно-ровный, не буйный, а тоскливый, подобный не черной туче, а белесому туману. Словно дух повесившегося осенью на ветке букового ангела Марсо вдруг разразился смятенными стонами. Этот пронзительный плач заполнил все пространство вокруг статуи Буковой Богоматери, спустился в хутор Лэ-о-Шен, проник в ворота Крайнего двора, под дверь дома и впился в сердце Толстухи Ренет. В ту же ночь наконец выпал снег. И шел до утра. Утром же все: дома, дороги, лес — очутилось под белым покровом. Следы Бешеного Симона окончательно замело. Некоторые говорили потом, будто бы видели в тот вечер огромного белого вола с человеком на спине, спускающегося вниз, в долину. Но в темноте и тумане никто не мог толком разглядеть, куда именно направлялся вол-призрак и кого на себе нес. А тут еще выпал свежий снег: легкий, белый и чистый, как сон ребенка.
Снег покрыл леса, поляну Буковой Богоматери, чело и крылья ангелов, и ветер умолк. Стих плач. Однако в душе Толстухи Ренет он звучал не переставая. Что с ее сыном, что погнало его прочь от семьи, от родных мест? Какое новое проклятье обрушил на него старик? Для Толстухи Ренет собственное тело всегда было целым царством, она жила в нем, как во дворце, никогда не уходила с хутора дальше соседней деревни и не могла себе представить, как можно жить где-то еще. На свете был Лэ-о-Шен, там, у самой кромки леса, стоял дом ее родителей, перешедший к ней, там она выросла, там было покойно ее громоздкому телу. Там долгие годы она терпела муки голода, терзавшего ей нутро, безмерного, безумного голода, повергавшего ее в ужас и отчаяние; там с помощью матери, любящего мужа и появившихся на свет детей она наконец приручила и смирила прожорливое чудище. Мир за пределами этих тесных вех казался ей чужим, враждебным, полным зла и опасностей. Голод, лютый голод, представлялось ей, гулял по свету и сосал человеческие души.
Читать дальше
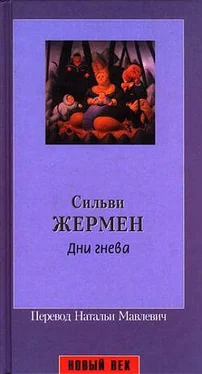
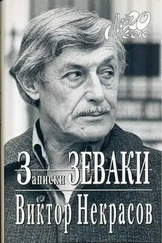









![Лили Сен-Жермен - Семь сыновей [ЛП]](/books/432919/lili-sen-zhermen-sem-synovej-lp-thumb.webp)
