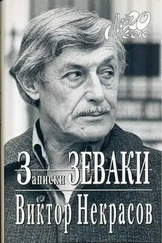Сознание того, что он остался жив и невредим, без единой царапины — он один среди сотен этих убитых и раненых, — повергло Теодора-Фостена в такую неудержимую радость, в такое буйное счастье, что его одолел безумный, истерический смех. Он хохотал и хохотал, не в силах остановиться, катаясь по земле и находя в этих судорожных всхлипах облегчение измученному телу. Он смеялся в необъятное сияющее лицо августовского небосклона, опьянев от запаха развороченной земли, насквозь пропитанной людской и конской кровью. Он смеялся, заглушая своим смехом крики и стоны умирающих.
Но что это? Не его ли смех, улетевший вдаль, на всем скаку возвращается к нему с берега реки звонким эхо? Может, он несет ему воду, этот скачущий галопом смех? Стук копыт близился и крепчал, ему вторил другой четкий размеренный звук — короткий свист, — каждый раз словно увязавший в чем-то мягком. И все это происходило быстро, очень быстро, в том же дробном ритме, что и его смех.
Вдруг он увидел над собой лоснящееся от пота брюхо серого в яблоках коня и удивительно гибкое человеческое тело, склоненное с седла набок. Он увидел также уверенный изящный жест руки всадника. Рука эта показалась ему прямо-таки волшебной, настолько длинной и чудесно изогнутой она выглядела. Ах, как ловко рубила она воздух, и сколько юного пыла сообщали эти взмахи прекрасному лику всадника! Теодор-Фостен, все еще во власти неодолимого смеха, в одно мгновение схватил все это взглядом. Он успел даже заметить, что всадник улыбался — неясной, чуточку отрешенной улыбкой подростка, захваченного героической мечтой, — и эта улыбка приподнимала острые кончики его светлых усов. А еще он увидел, что лошадь повернула голову и уставилась на него огромным выпуклым глазом, но этот глаз был всего лишь большим вращающимся шаром с пустым, ничего не выражавшим взглядом. И вдруг конь и всадник исчезли. Как, впрочем, исчезло и все остальное, даже небо, внезапно захлестнутое кровавой волной.
Теодор-Фостен перестал смеяться; багровое небо залило ему кровью глаза и рот. Он почувствовал, как на языке шевельнулось и тут же исчезло, утонуло в жгучем потоке заветное слово; это было имя его отца, имя, которое он хотел крикнуть Ноэми, чтобы она дала его сыну. А всадник все скакал и скакал вперед, гибко клонясь вбок с седла и проделывая все то же размеренное, размашистое движение, сопровождаемое тугим свистом вспоротого воздуха.
Так окончилась война рядового Пеньеля. Для него она продлилась меньше месяца. Но зато она свила гнездо в теле своей жертвы и там хозяйничала еще целый год. Теодор-Фостен так долго пролежал неподвижно, с закрытыми глазами и отнявшимися конечностями, на железной койке в углу палаты, что, когда наконец встал, ему пришлось заново учиться ходить. Впрочем, учиться нужно было и всему остальному, начиная с самого себя. Все в нем стало неузнаваемо, особенно, голос, навсегда утративший свой низкий бархатный тембр и нежные интонации. Теперь Теодор-Фостен говорил крикливым прерывистым фальцетом, словно выталкивая звуки из груди. Да и речь-то он строил с величайшим трудом, то и дело забывая и вдруг находя слова, которые невпопад вставлял в неуклюжие, сбивчивые фразы. А главное, он произносил их с яростным усилием, бросая в собеседника, словно горсть камешков в чужую голову. Но самым ужасным был его смех — злобный, полубезумный смех, который одолевал его семь раз на дню, сотрясая и едва не раскалывая ослабевшее тело. Он напоминал скрежет ржавой лебедки, этот смех, и каждый такой приступ обезображивал его лицо глубокими морщинами и жуткими гримасами. Впрочем, оно и без того было изуродовано вконец. Сабельный удар германского улана рассек ему голову чуть ли не надвое, и теперь страшный шрам, змеившийся от макушки до подбородка, наискось, делил лицо на две неравные части. Эта жуткая рана оставила на голове странную тонзуру, и при Каждом приступе смеха нежная оголенная кожа вздувалась и трепетала, словно размякшая восковая пленка.
Его отметили и даже наградили. Потом отпустили домой. Лето было в самом разгаре. Он пересек в обратном направлении поля и деревни, пройденные годом раньше. Поля были изрыты воронками, мосты взорваны, деревни сожжены, города аннексированы, и повсюду люди смотрели испуганно и подозрительно, точно затравленные звери; и повсюду царил траур и позор поражения.
Он возвращался один; от всех его прошлогодних однополчан никого не осталось — одни погибли, другие давно уже вернулись к семьям. Итак, он возвращался один, только куда позже остальных. Он не ощущал ни радости, ни нетерпения на этом ведущем к дому пути. Ему все опостылело. Он знал, что безвозвратно упустил время. Отныне для всего было уже слишком поздно.
Читать дальше