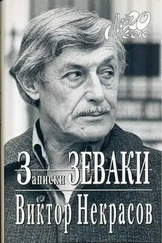Мальчик любил играть на носу баржи, сидя лицом к воде, чьи блики и тени знал лучше всего иного. Он складывал птиц из ярко раскрашенной бумаги и запускал их в воздух, где они парили один короткий миг перед тем, как опуститься на воду; там их легкие крылышки мгновенно размокали, теряя краски, которые тянулись за ними розовыми, голубыми, зелеными, оранжевыми шлейфами. А еще он выстругивал из коры и веток, подобранных на берегу, маленькие баржи, водружал на них прочную мачту с парусом из носового платка и пускал по волнам, загрузив пустые трюмы грузом своих мечтаний.
Больше Виталия детей не рожала. Каждую ночь муж прижимал ее к себе, соединялся с нею, завороженный белизной ее тела, ставшего воплощением улыбки и покорности. И так засыпал в ней глубоким, как обморок, сном, лишенным видений и мыслей. Рассвет всегда заставал его врасплох, словно он только что родился из этого слитого с ним тела жены, чьи груди, со дня появления на свет сына, непрестанно источали молоко с привкусом айвы и ванили. И он опьянялся этим молоком.
Отец стоял у штурвала, а Теодор-Фостен вел по берегу лошадей. Среди них была рослая вороная кобыла по имени Сальная Шкура, вечно мотавшая на ходу головой, и два рыжих коня, Кривой и Обжора. Теодор-Фостен должен был накормить их еще затемно, а потом до самых сумерек вести в поводу по тягловой тропе вдоль реки. Во время остановок, случавшихся в шлюзах или при погрузках, он, бывало, подходил к «сухопутным» — смотрителям, кабатчикам, торговцам, — но никогда не заводил с ними дружбы, удерживаемый неясным страхом перед всеми чужими существами. Он не осмеливался разговаривать с ними, ибо его странные интонации удивляли тех, кто слышал его голос и кто, пытаясь заглушить в себе смутную боязнь этих непривычных звуков, насмехался над ним. Во время стоянок он предпочитал держаться поближе к своим лошадям; он любил гладить их мощные головы и шелковистые веки. Огромные выпуклые глаза, которым был неведом страх, обращали к нему взгляд бесконечно более нежный, чем взгляд его отца и улыбка матери. Они отливали тусклым блеском металла или матового стекла, они были одновременно и прозрачны и непроницаемо темны. Тщетно он впивался в них пристальным взглядом — он ничего не различал, теряясь в бликах золотистого света, ряби илистой воды и клочьях тумана, что отражались в этих карих глубинах. В них мальчику чудился скрытый лик мира, та загадочная сторона жизни, что смыкается со смертью, и присутствие Бога; они были для него средоточием красоты, спокойствия и счастья.
Его отец умер, стоя за рулем новой баржи, купленной несколько месяцев тому назад. Это было первое его собственное, а не арендованное судно. И он сам выбрал ему имя, которое написал крупными буквами на носу — «Божья милость».
Смерть вонзилась ему в сердце одним ударом, внезапно и бесшумно. Она скользнула в него так предательски тихо, что он даже не пошатнулся: как стоял, так и остался стоять, держа руки на штурвале и глядя вперед, на воды Эско, широко раскрытыми глазами. Теодор-Фостен, который вел упряжку по берегу, ничего не заметил. Только все три лошади как-то странно дрогнули, на миг встали и повернули головы к хозяину, но Теодор-Фостен, взглянувший следом за ними в ту же сторону, не увидел ничего необычного. Отец, как и всегда, стоял за рулем, устремив на реку пристальный взгляд. Зато Виталия сразу все поняла; в ту минуту она сидела на корме, выжимая замоченное в корыте белье. Вдруг все ее тело передернула судорога страха.
Смертный холод мгновенно сковал его, груди словно окаменели. Она вскочила и бросилась на нос, слепо натыкаясь на все, что попадалось по дороге. Груди жгло, как огнем, дыхание перехватило, она не могла даже окликнуть мужа. Наконец она подбежала к нему, но, тронув за плечо, в ужасе застыла на месте. В мгновенном прозрении она увидела, как недвижное мужское тело, которого коснулась ее рука, испепелил нездешний огонь, оставив от него лишь ослепительно прозрачную оболочку. И сквозь эту подобную тонкому стеклу оболочку она увидела своего сына, размеренным шагом ведущего лошадей по тягловой тропе, чуть впереди баржи. Потом наступил мрак, и тело мужчины вновь обрело былую плотность. С глухим шумом оно рухнуло прямо в объятия Виталии. Свинцовая тяжесть этого тела словно вобрала в себя вес тех бесчисленных ночей, когда муж ложился на нее и всеми членами крепко, нераздельно сплетался с нею. Вес целой прожитой жизни, всех ее желаний, всей любви, внезапно ушел в мертвый груз холодной, неподвижной массы. Виталия не смогла удержать тело и рухнула под его тяжестью. Она хотела позвать сына, но слезы перехватили ей голос — белые слезы с привкусом айвы и ванили.
Читать дальше