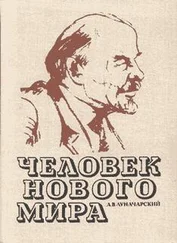Машу и дядю Митю вызывали несколько раз. Несколько раз они вновь повторяли свой танец, и все время по-новому, потому что отрепетированного, затвержденного рисунка у них не было, и они делали что хотели. А потом они кланялись, стоя у самой рампы, перед глазами у дяди Мити плавали разноцветные круги, и сотни лиц сливались в одно лицо, из зала летели цветы, где-то наверху скандировали его имя. «Вот и успех», — подумал дядя неожиданно спокойно и отстраненно, будто бы не о себе самом, а о совсем другом чужом человеке.
Он собрал все цветы и торжественно преподнес их Маше, поцеловав ей при этом руку. И опять прогремели аплодисменты, потому что народу нравилось, что их бухгалтер, человек из конторы — счеты, арифмометр, сатиновые нарукавники, — вдруг оказался так непринужденно и изысканно элегантен.
Маша вытерла слезы и расцеловала дядю в обе щеки.
— Господи боже мой! — прошептала она. — Звание получила и за границей гастролировала, а такого успеха в жизни не знала!
В артистической после поздравлений и объятий дядя Митя бессильно опустился в кресло. Он был насквозь мокрый, в голове шумело, как после затяжного, на всю ночь, пьянства, несвежий, пропитанный духами и вином воздух он судорожно ловил ртом.
— Ну и бухгалтеры у вас на заводе, — откуда-то издалека-издалека, словно бы из собственных воспоминаний, доносился барственный кокетливый голос конферансье, — после них артистов выпускать положительно невозможно…
Стесняясь непривычной обстановки, в артистическую вошла дядина жена Нина. Она улыбалась робко и счастливо.
— Нас ждут, Митя, — сказала она. — Человек двадцать народу. Ты представить не можешь, после тебя не захотели больше концерт смотреть. — И вдруг чуть не вскрикнула, вовремя прикрыв рот рукой: — Что с тобой, Митя?
Дядя открыл глаза. Из зеркала на него глядело совершенно чужое, бледное, изможденное, похожее на посмертную маску лицо.
***
Через три дня дядю отвезли в больницу. Он понял, что это за больница, хотя от него тщательно скрывали се название и специализацию. Очень наивно скрывали, пряча наливающиеся слезами глаза, кривя губы, бледнея или, наоборот, неестественно улыбаясь и бодрясь.
Эта больница была похожа на отдельный город — так огромны были ее корпуса, и так просторна территория, разделенная на проспекты и площади, по которым взад и вперед ездили автомобили. Странно было подумать, что за стеною, высокой, почти крепостной, течет обычная жизнь, в которой все, даже затяжные дожди, даже грязь под ногами, даже склоки в переполненном автобусе, полно чудесного смысла и ощущения бесконечности бытия. Обычная жизнь, в которой никто не догадывается, а если и догадывается, то не хочет думать, гонит от себя мысль, даже тень мысли о существовании этого города. Дядя Митя вспоминал все неприятности своей жизни, все самые неудачные, скучные, голодные дни — сейчас они казались ему прекрасными. Он думал, что если выйдет отсюда, то никогда не будет пенять на судьбу, что бы ни случилось, — какое там, как можно переживать о деньгах, о тряпках, о том, куда поехать отдыхать, как можно огорчаться из-за чьей-то неловко сказанной фразы, из-за того, что тебя не заметили или не оценили, когда можно жить, ходить по улицам, смотреть, как меняется цвет неба, как в мокром асфальте разноцветными полосами отражаются рекламные огни. Когда можно читать, не думая, что эта книга последняя. Когда можно смотреть за полетом городской ласточки, не закусывая в отчаянии губу от внезапного холодного сознания, что она вот так же будет носиться стремительными кругами, то взмывая в небо, то пикируя к самой земле, а тебя уже не будет. Никогда не будет.
Дядю водили к разным врачам. Его щупали, мяли, просвечивали, у него брали кровь из пальца и из вены, каждые три часа собирали мочу — даже в этих совершенно обычных процедурах ощущалась зловещая беспощадная закономерность. Он понимал, что это несправедливо, просто вопиюще несправедливо, но весь здешний персонал: и профессора в золотых очках, и молодые кандидаты в модных галстуках под халатами, и сестры, как-то неожиданно и оскорбительно соблазнительные в этих же самых накрахмаленных халатах, — казался ему служащими фабрики смерти.
Они привыкли к своей профессии, к безнадежности своих усилий, к зрелищу угасающей, истончающейся, уходящей в никуда человеческой жизни, как в других местах люди привыкают к грохоту кузнечных прессов или к высоте.
Если бы они не привыкли, им делать бы нечего было в такой больнице, и все же их спокойствие, их улыбки, в которых виделся отблеск вчерашнего фильма, или концерта, или футбольиого матча, сводили с ума.
Читать дальше