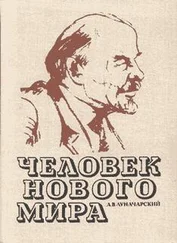Дядин аккордеон тоже не сразу, но, очевидно, потерял свою магическую власть надо мной. Было время возрождения джаза, и эстрадного и инструментального, — само это слово, для моего поколения полузапретное и потому особенно волнующее, вновь робко появилось на афишах. Имена давних джазовых знаменитостей выплывали из забвения, броские рекламы зарубежных гастролеров смущали воспитанных в пуританстве москвичей — во дворах не слышно стало незабвенного Петра Лещенко. Дворовые танцы не шуршали больше по асфальту под коломенский патефон, они шуршали теперь под выставляемый на окно проигрыватель, радиолу или даже магнитофонную приставку, чаще всего радиолюбительскую, самодельную. А по-клубам и Домам культуры на больших балах по случаю табельных дней и просто на танцевальных вечерах, после доклада или кинофильма, выступали маленькие джазовые составы. Их музыканты — молодые люди с бледными, нездоровыми лицами — сделались почти что героями дня — они носили ботинки на рифленой самодельным способом подошве, бриолин чуть ли не стекал с их высоко взбитых коков, и говорили они на своем кастовом, ужасающе неблагозвучном, варварском, дурацком, необыкновенно прилипчивом языке.
Однажды передовое начальство нашей школы поддалось веянью эпохи, и трое «лабухов» прибыли на наш школьный вечер: маленький и хилый, с задорным лицом играл на ударных инструментах и уже в силу этого мог считаться выдающейся личностью. За роялем, или «фоно», как говорили музыканты, сидел полный, приятный парень, типичный юноша из хорошей еврейской семьи, про него с первого взгляда можно было безошибочно сказать, что он носит теплые кальсоны, ничуть от этого морально не страдая.
Но самой колоритной фигурой, так сказать олицетворением джаза, оказался саксофонист. Высокий, носатый, с четким пробритым пробором лорда или официанта, в клетчатых, обтягивающих его сухопарые ноги штанах, как я теперь понимаю, обуженных до такого предельного состояния тоже домашним способом. На стареньком своем, кажется даже заклепанном в нескольких местах, саксофоне он творил чудеса, добиваясь таких изумительно-гнусавых звуков, от которых сжимались и замирали наши неискушенные в музыке и любви сердца.
А это все переплелось тогда: и танцы, и джаз, и первая любовь, и замирание сердец по поводу и без повода, однако это совершенно особая тема.
Потом, во время перерыва, я случайно забрел в физический кабинет и был поражен тем, что непостижимый для меня саксофонист в компании наиболее взрослых наших десятиклассников разливал по мензуркам и пробиркам обыкновенную водку из зеленой бутылки.
Вполне понятно, что после такой современной музыки, после бархатного барского голоса Уиллиса Кановера, который вел джазовые комментарии в регулярных передачах «зис из мюзик Ю Эс Эй», дядин аккордеон и дядин репертуар — он менялся, разумеется, но, так сказать, в рамках своего стиля — перестали меня интересовать,
Я теперь избегал семейных вечеринок и, когда они происходили у нас, старался заявиться домой как можно позже. Однажды я пришел на родной порог совершенно убитый. В школе, пока я торчал на какой-то вечерней лекции, у меня в раздевалке из рукава пальто стащили шарф. По правде говоря, шарф был довольно-таки паршивый, даже, помнится, проеденный кое-где молью, но пестрый, клетчатый и, по моему разумению, чрезвычайно модный. Я чуть не ревел в тот вечер. Я ныл и стонал и оттого, что жаль мне было шарфа, и еще от обиды на свою разнесчастную судьбу — вот надо же было мне, в высшей степени неимущему человеку, оказаться жертвою воровства — ведь этот шарф в моих глазах был у меня единственной вещью, приобщавшей меня к миру высокой элегантности, как я ее тогда понимал. Родня успокаивала меня, но самые сочувственные слова только растравляли оскорбленную мою душу. Дядя Митя не мог больше видеть моих мучений, он отозвал меня в коридор и вынул из кармана пальто свое кашне: возьми. А я расстроился еще больше и если не словами, то наверняка своим видом дал понять, что это серенькое скромное кашне никогда не заменит мне моего роскошного шарфа.
Теперь я понимаю, что нет на земле такой вещи, из-за которой стоило бы лить слезы, теперь я понимаю, что плакать можно, только когда теряешь людей, теперь я многое понимаю, но что это может изменить.
***
С того вечера дядя Митя перестал играть на свадьбах. Как отрезал. Георгий Аронович уговаривал его, убеждал, высмеивал и урезонивал — дядя не спорил с ним, он просто его не слушал. Он словно бы переиграл в ту страшную ночь, словно бы надорвал в себе что-то, аккордеон ему не то чтобы опротивел, но сделался не мил и не нужен, дядя, вновь взгромоздившись на скрипучий венский стул, поставил его на шкаф. А сам прямо с этого стула нырнул в пучину финансовых наук, в стихию семинаров и спецкурсов, экзаменов и зачетов, курсовых работ и ночных бдений во время сессии — эта сторона дядиной жизни мне мало известна, я знаю лишь, что несколько раз он как отличник получал повышенную стипендию, хотя учеба в этом институте давалась ему с трудом. Я сам учился в вузе, на мой гуманитарный взгляд несравненно более легком, экзамены раскалывались, как орехи, и я не могу даже вообразить себе, что бы стал делать, окажись я на дядином месте. А он, с его любовью к стихам, с его знанием миллиона песен, и народных и псевдонародных, и патриотических, и блатных, всех тех, в каких когда-либо городская окраина выражала страсти и надежды, дядя Митя, на которого при звуках музыки, будь это симфонический концерт, джаз или опера, неизменно слетала благодать, он различил свою мелодию и в бухгалтерском учете, быть может, звучные итальянские термины «бульдо» и «сальдо» тому причиной. Во всяком случае, дядя успешно окончил институт и поступил на работу в банк. Как известно, быть сапожником вовсе не значит носить хорошие сапоги — буквальная близость дяди к деньгам не умножила его личных богатств. Но все же, чего бога гневить, тяжелые времена миновали, жизнь налаживалась, стабилизировалась, как говорят в таких случаях государственно мыслящие экономисты. Появилась твердая зарплата, появилась выслуга, даже форму дяде выдали, она одновременно забавляла и подавляла его своим неизбывным чиновничьим видом — ядовито зеленым цветом, кантами и петличками и более всего тяжелой и высокой фуражкой, в которую была подложена тугая металлическая пластинка. Всякий раз перед уходом на работу дядя по актерской привычке внимательно рассматривал себя в зеркале и вздыхал — швейцар чистой воды. Скоро в «Метрополь» позовут. Или, может, еще в цирк. Униформистом.
Читать дальше