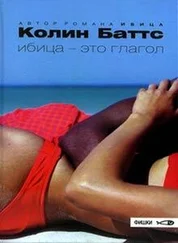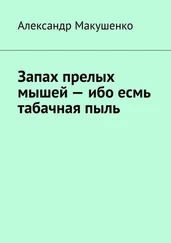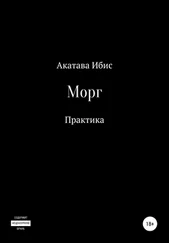Вдруг у меня в голове возникает образ жирного, сального сердца Томаса. Онемевшее, но пульсирующее, неспособное, неспособное…
«Я всегда только и делала, что любила его».
«Мне, пожалуйста, сердечный приступ», – говорила я человеку за прилавком, который больше не признает во мне девушку. Я не могу выкинуть сердце из головы, артерии забиты желчью, сигаретным дымом, тревогой, кишащей в жидком яде; перегретая сердцевина моего отца.
«Шлеп, шлеп, мое сердце взято приступом».
Знание анатомии сначала представляет собой умение правильно вскрыть труп, а затем практическое понимание того, что артериальное кровотечение при неверной локализации может нанести вред пациенту.
Я выхожу из закусочной, чувствуя одновременно возбуждение и трепет, и вижу настоящего наркомана-трансвестита, он сидит на углу и продает свои пожитки, разложив их на грязном розовом одеяле, в том числе детские чашки.
– Сколько за кепку «Экспо»? – спрашиваю я, втягивая щеки, чтобы выглядеть еще страшнее.
Он крашеная блондинка, лет на десять старше меня, а может, моложе, и, кажется, не замечает моего жуткого вида. Мы оба непонятного пола, но она крупнее и пытается накормить крекерами плюшевого медведя-клоуна, завернутого в драное голубое одеяльце. Не прерывая своих сюсюканий с медведем, она протягивает руку и рявкает:
– Два пятьдесят!
– Два пятьдесят? Может, для ровного счета три?
Я кладу деньги на розовое одеяло и быстро беру кепку, натягиваю на голову и опускаю козырек.
– Ну ты красотка, Энджи! – пищит она и восторженно показывает мне большой палец.
Я улыбаюсь ей в ответ, меня как-то утешает то, что кто-то выглядит не лучше меня. Я иду на угол улицы, слышу, что она меня зовет, и оборачиваюсь. Она машет мне голубым одеяльцем.
– Энджи! Погоди!
– Что?
Она подходит, вся сплошные ноги на восьмисантиметровых каблуках, и вручает мне одеяло.
– А я думала, это твоего, м-м, ребеночка.
Она ничего не говорит, но вкладывает мне в руку два горячих четвертака.
– Твоя сдача.
И в первый раз за несколько недель кто-то смотрит мне в лицо и не боится того, что видит. Я поднимаю на нее глаза, на заскорузлую тушь, осыпающуюся с опаленных ресниц, на потрескавшуюся пудру, прилипшую, как клей, к подбородку в тенях щетины. Я благодарна ей за эту грязную, но практичную вещь, за то, что меня заметили.
– Ты не Энджи, – говорит она, разглядывая мой лоб. У меня из живота вырывается измученный стон, а она разворачивается на каблуках и говорит: – Возьми одеяло. Не знаю, куда ты идешь, но, по-моему, дорогуша, оно тебе понадобится.
Послеоперационная палата является продолжением операционной, поэтому анестезиолог и хирург должны оставаться в курсе состояния пациента и быть доступны на случай осложнений.
Я бреду по узкой улице с заскорузлым одеялом в руках.
Я здесь. Я одна. «Ну, почти».
Я снопа в черных джинсах, белой рубашке, голубой кепке и с сумочкой Агнес. Я в мире, в городе. У меня есть право. Теперь я живая.
Я илу вдоль мусорных контейнеров, мимо сточных канав на задах баров и ресторанов. Я слышу голоса, лязг трамваев, мужской смех, детский плач. Я слышу, как сердце качает во мне кровь, то, что от нее осталось, я слышу, как она курсирует по мне великолепными волнами боли, а потом опять биение отчаявшегося, недовольного сердца.
Что он чувствовал? Что он чувствовал, когда умирал, утопая в собственных выделениях? Набитый всякой дрянью. Я иду, пока хватает сил, пока ноги не становятся грязными от вони Чайнатауна и ремешки резиновых шлепанцев не натирают их до волдырей. Я сажусь у пожарного выхода здания, накинув на плечи одеяло. Жду, когда ко мне вернется мое имя, сижу на заднем крыльце в темном переулке, пытаюсь дышать, мне кажется, что я застряла в путах мертвого сердца и провале чужого мозга.
«Кто же меня все-таки сделал?»
«Ты мусор, рожденный от двух мужчин».
«Нет».
«Надо знать происхождение, да, доктор?»
«Да».
«Эпилепсия передается по мужской линии, не так ли? Не потому ли он водил тебя делать электроэнцефалограмму?»
Если электроэнцефалограмму снимают в больнице или крупной частной клинике, с результатами могут ознакомиться несколько неврологов, что снижает долю субъективности и пристрастности.
Через неделю после энцефалограммы воспоминание о ней и гудение в теле блекнет. Тот день мне вспоминается двумя вспышками: вот папина серая шляпа покачивается среди десятков чужих голов, а вот комок клубничного мороженого у меня на туфле. Но я не помню, как это было, когда меня обвивали черные провода и тихий белый шум ударял мне в нос, как газировка. Я знаю только, что из-за того дня мои родители до сих пор не разговаривают друг с другом.
Читать дальше