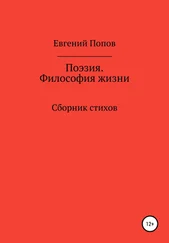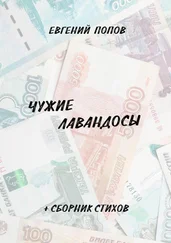Хочу добавить к описанию фото № 1 (дети с нянькой), что относится оно к 1915 году, ибо мой отец Анатолий родился в 1910 году, а на обороте фотографии написано, что ему 5 лет, Всеволода и Конкордию я никогда не видел, про Всеволода и не слышал никогда, а про Конкордию вроде бы кто-то говорил, мама или бабушка... Говорили, произнося словосочетание «тетя Конда». Следовательно, на этой фотографии сняты в юном возрасте папаша, дядя Всеволод-неизвестный и тетя Конда, канувшая незнамо куда, и если ты морщишься, Ферфичкин, то я тебя читать не заставляю, и читателя мне такого совершенно не нужно, который таинственно морщится, потому что – что хочу, то и пишу, как хочу, как умею, потому что. Не нравятся мои послания, скучно тебе, так ступай купи себе чего-нибудь интересненького на книжном толчке у первопечатника Ивана Федорова, что грустит в самом центре столицы, глядя металлическими глазами. Вот так-то!..
Теперь, когда я с грехом пополам описал эти две фотографии и пристыдил тебя, зарвавшийся Ферфичкин, нам с тобой необходимо решить ряд вопросов.
Первый вопрос. Были ль мои предки по отцовской линии богатыми людьми? Ведь каждый, увидев на фотографии, снятой в 1915 году, сытеньких детей, няньку, велосипед, русские сапожки, ответит на этот вопрос утвердительно. И каждый, скорее всего, ошибется. Я думаю, они не были богатыми, но были вполне обеспеченными, а это две большие разницы, как говорят в Одессе, уроженец которой поэт Л. рассказывал мне про своего гимназического учителя, который был небогат, но вполне обеспечен окладом своего жалованья, которое позволяло ему иметь вицмундир, ежедневно менять крахмальные сорочки, нанимать маленькую трехкомнатную квартиру и содержать кухарку Дусю. Но он не мог позволить себе ежегодную каникулярную поездку в Ниццу или Ялту, не мог часто ходить в театр и пить шампанское. Я думаю, в те времена были какие-то другие критерии богатства, нам сейчас практически непонятные, ибо хорошо оплачиваемый теперешний товарищ (оклад 180 рублей плюс прогрессивка 40%) нынче сам себе варит пищу в кастрюле, зато каждое лето шныряет неизвестно на какие шиши по Крыму и Кавказу. Кухарку же не в состоянии завести даже поэт-песенник с окладом 50 тыс. руб. в год или какой-нибудь будущий обитатель жесткой скамьи подсудимых, мирно занимающийся хищениями в особо крупных размерах. А ведь они – богачи даже по сравнению с настоящими бывшими буржуями, которых порешил октябрь 1917 года.
Второй вопрос. Вдруг мелькнуло – полно, да был ли дедушка Евгений служителем культа? Может, это он, а не его брат, дядя моего отца, являлся белым офицером, который, не дожидаясь приближения пролетарских отрядов грозного Щетинкина, сел на коня и ускакал через Хакасию, Туву, Монголию и Маньчжурию в китайский город Харбин.
Скажите, китайцы, там, в Харбине, моего дедушку не видели? А может, он и дальше дунул, став основателем фирмы, производящей водку для западных штатов США, а? Чушь все это, но бабушка Марина Степановна рассказывала про маленькую церковку под Минусинском и как последовательно отбирали утварь: ризы парчовые, ризы иконные, а потом и самого дедушку ухлопали, но собственно икон, досок, как выражаются нынешние фарцовщики, не тронули... Нет, неправда – бабушка о причинах смерти своего первого мужа (дедушки, о. Евгения) никогда не распространялась, а говорила коротко: «Умер». Это дядя Ваня, пьянь, шептал мне в Енисейске, озираясь за своим служебным столом замдиректора леспромхоза, что обоих братьев, моего деда и его, дяди-Ваниного отца, спустили под лед в 1919 году близ села Ворогово Красноярского края, но отнюдь не на юге того же края, где находится Минусинск, отчего вновь создается путаница и неясность, хотя почему бы не перевезти дедушек водой по Енисею из Минусинска в Ворогово и там, дождавшись крепкого льда, под лед этот их не пустить? Ведь тогда еще не было Красноярской ГЭС, и судоходство было свободным на всем протяжении Енисея. Да нет, глупость, зачем кого-то куда-то везти, когда любого можно кончить на месте... Ерунда, сущая ерунда... «А кто спустил, красные или белые?» – спрашиваю я дядю Ваню. «Сам догадайся», – отвечает замдиректора леспромхоза, озираясь по сторонам как бы в ожидании чертей, которых ему следует аннулировать крестом. Мы пьем с ним дальше и наконец выходим на широкий казенный северный двор, где его злобно дожидается личный шофер, водитель вездехода, на котором они вот уже столько дней не могут добраться до отдаленных леспромхозовских участков. Дядя Ваня широко распахивает двери склада. «Племянник, я хочу сделать тебе подарок. Выбери себе в этом складе все, что хочешь...» Но в складе нет ничего, кроме висящих на ржавом гвозде громадных кирзовых сапог 43-го размера... Растроганный его добротой, я забираю сапоги... «В них имеется специальная капроновая прокладка, это специальные сапоги для лесорубов: если лесорубу падает на ногу срубленное им дерево, то оно не ломает ему кость, а делает лишь ушиб, – хвастается дядя Ваня. – Скажи, как ты думаешь, есть Бог или его все-таки нету?» – тихо спрашивает он, приблизив ко мне изучающее лицо и дыша ароматной сивухой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
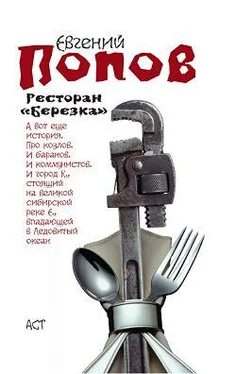
![Евгений Попов - Семнадцать о Семнадцатом [антология]](/books/31293/evgenij-popov-semnadcat-o-semnadcatom-antologiya-thumb.webp)
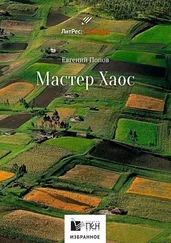
![Евгений Попов - Плешивый мальчик. Проза P.S. [Авторский сборник]](/books/35116/evgenij-popov-pleshivyj-malchik-proza-p-s-avtors-thumb.webp)