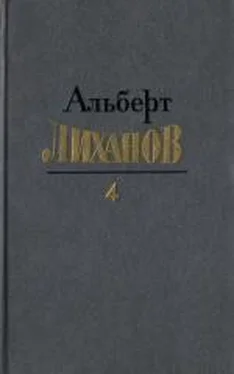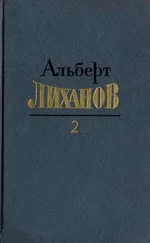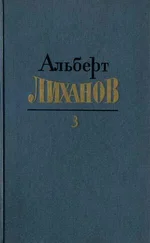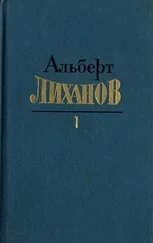И вот — санаторий под Калугой, специально для таких детей. Представьте: полный санаторий, куда стоит длинная очередь.
Да, мы мало говорим об этом, но сколько живет детей, чья радость обезображена материнским грехом, родовыми травмами, наследственностью или просто ранней, совсем нежданной бедой. Мир этих детей реален, значит, имеет право на внимание и заботу и не только медицинского свойства, но и свойства педагогического.
Как, например, какими словами объяснить подрастающему и все понимающему ребенку, что судьба предначертала ему именно такое существование до самой смерти, однако падать духом нельзя, в жизни есть много способов сознательной, полезной борьбы. И на вопрос, как найти собственное счастье, придется нам ответить таким людям, когда они войдут в пору зрелости. Но как? Какими словами?
Они, ясное дело, находятся, эти слова. Только, увы, их не педагогика находит, а любящая и страдающая родительская душа. Педагогика пока что не нашла подступов к драматическим ситуациям обреченного на муки детства. Но это — другой разговор. Сложный, деликатный и необходимый. Больных детей немало, и случай с Андреем, хочу Вас заверить, не самый еще тяжелый. Я сознаю, что выражаюсь неточно. Какое дело, в конце концов, до того, что кто-то и где-то страдает еще сильней. По-настоящему дорого то, что близко, за что страдаешь сам. Я не посягаю на то, чтобы умалить Ваши тревоги, нет. Я просто хочу заметить, что у Вас было самое дорогое — надежда. Надежда на выздоровление. А у многих ее нет.
Ясное дело, операция на сердце — это не месяцы, а годы, когда организм привыкает к новой жизни, в которой очень медленно, постепенно все «нельзя» превращаются в «можно». Ребенок это не сознает. Он торопится. И материнское сердце должно быть рядом каждый час и каждую минуту.
Мне кажется, Ваша дочь и Вы в те времена соединили вместе свои возможности — духовные и физические. Как я понимаю, дочь работает, и поэтому Ваше участие в судьбе Андрея почти равно участию Вашей дочери. Простите меня за это «почти». Вы лучше меня сознаете разницу между вами; не мне проводить эту черту.
Беда миновала, время стерло остроту жалости, и вот однажды Вы приходите к мысли, что физическое спасение ребенка — это еще не все. Что, избавленная от болячек, натура Андрея растет не в ту сторону и это развитие — со знаком минус — становится просто неуправляемым. Вам кажется странным, что, избавленный от нездоровья и получивший все материальные блага жизни, не говоря уже о любви и заботе, мальчик ведет себя дико, как будто ему все еще чего-то мало.
Вы в отчаянии.
Дело доходит до психоневрологического обследования! И тут Вам приходит на ум ужасное, разом все объясняющее слово — кукушонок. Что бы ни делала, как бы ни старалась синица, подкинутое ей яйцо скрывало кукушонка, а он — чужой, неблагодарный, наглый не по каким-то там непонятным причинам, а просто по природе вещей, вот и все.
Постойте, Нина Степановна!
Не торопитесь с логической простотой! Как часто она бывает обманчивой, такая ясность, похожая, простите, на приговор. Как часто решенное, при выяснении неизвестных подробностей, требует поправок, обратного хода, да, вот ведь, оказывается — поздно и ничего не воротишь обратно.
В Вашем письме есть такая, кажется, удовлетворяющая Вас картинка: «Он не знает, почему он груб, неуживчив, неуправляем. На все вопросы — почему? — он страдальчески морщит лоб и отвечает: «Не знаю. Понимаю, что говорю плохое, не могу остановиться. Лучше бы мне умереть». Ребенку в двенадцать лет, в общем жизнерадостному, здоровому, любимому, вдруг могут прийти в голову мысли о смерти как избавлении от несправедливости».
Эта последняя Ваша фраза носит констатирующий характер. Вы как бы вынужденно соглашаетесь с такой возможностью — не смерти, но мысли о ней.
Знаете, а мне тут видится совсем другое. Меньше всего мне хотелось бы задевать Ваши чувства к Андрею, но уж не обессудьте… Так вот, мне кажется, что сказал такие слова вовсе не своенравный кукушонок, не чужая кровь, с которой Вы не в силах сладить, а ребенок, обыкновенный, вполне открытый ребенок, но только доведенный взрослыми до таких слов. Собственно говоря, я не сужу Вас за вопрос — почему ты такой? Но лишь при одном условии: если он риторический, если он задан в отчаянии. Но ежели он задан с расчетом на серьезный ответ, да еще и ответ этот рассмотрен как серьезный аргумент в доказательство его «генетической» неисправимости — тут же позвольте воспротивиться.
Читать дальше